 |
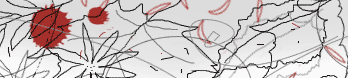 | |||||
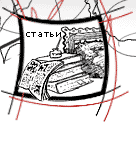 | ||||||
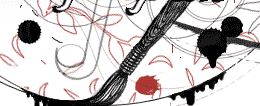 |
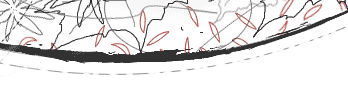 | |||||
Статьи и публикации об искусстве Статьи современных авторов: Книги и публикации (для скачивания):
Анатолий Вержбицкий "Творчество Рембрандта"
Продолжение Конец 1631-го года застает художника уже в столице, где он становится вскоре одним из ведущих живописцев. Амстердам называли "Северной Венецией". Но это была холодная, дождливая, туманная Венеция, с суровыми настойчивыми ветрами, летящими от льдистых скандинавских берегов, с прямыми улицами и живописными набережными, с кудрявыми деревьями, с устремленными в облака остроконечными шпилями церквей. Над всем этим возвышалась величественная башня биржи - сердце торговли Нидерландов. Веером раскинувшийся на берегу Северного моря, с обширным портом и каналами, соединяющими его с остальной страной, Амстердам являлся естественным средоточием страны и выходом на морской простор. Морские торговые дороги Нидерландов были во много раз длиннее венецианских. Венеция господствовала лишь над Средиземным морем, Амстердам - над океанами, по которым ежедневно с севера, с востока и с запада приплывали десятки кораблей иностранных государств. Трюмы этих кораблей были загружены всевозможными сокровищами. Драгоценные камни, шелка, слоновая кость из таинственной Индии. Великолепные вазы Китая. Тончайше сработанные, с узорами из золота, серебра и перламутра, шкафы, столики и кресла. Благоуханные пряности и фрукты - корица, гвоздика, шафран, мандарины, бананы, ананасы - и радость европейцев - табак, кофе, какао. Суда знаменитого акционерного общества Ост-Индской компании образуют целую плавучую провинцию. Штабеля леса с Балтийских берегов и из Норвегии громоздятся на амстердамских набережных и покидают амстердамские верфи в виде гордых военных кораблей, стройных галер и крепких транспортников. Из грандиозных зернохранилищ Амстердама - этой житницы Европы - черпают Англия, Франция, Испания и Италия. Недаром современник Рембрандта, итальянский путешественник из свиты Козимо Медичи говорил, что кажется, будто все четыре стороны света - север, юг, восток и запад - ограблены, чтобы обогатить этот город и свезти в его порт все, что есть достопримечательного и исключительного. Амстердамская биржа с утра до ночи кишела толпами купцов, спекулянтов и аукционеров, жаждавших неимоверных прибылей: здесь люди бешено гнались за могучим золотом. Биржа диктовала остальным законы и сделки. На ней, по словам современников, можно было закупить и продать целый мир. Место, где в полдень кишат всевозможные народы, так воспевает амстердамскую биржу современник и друг Рембрандта, поэт Деккер. Амстердам - это город спесивых и жадных торговцев, которые в годы после окончательного признания Испанией независимости Голландии стал городом блеска и неожиданного процветания. Высились узорчатые фасады дворцов с тяжелыми, неуклюжими треугольными фронтонами, увенчивающими стены, с аляповатыми густыми каменными гирляндами, с каменными вазами и шарами, то вделанными в зубчатые стены фасадов, то красующимися сверх стен. Очень много окон, вбирающих серый, туманный свет дня. Общее впечатление странное. Женщины в накрахмаленных белых воротниках, сидя у окон, часами рассматривают фасады домов на противоположной стороне улицы. Шума в квартирах мало: все в порядке, обдуманно, установлено, рассчитано. Здешняя жизнь напоминает торговую книгу: прямые линии и столбцы цифр. Жители Амстердама все были пуритане - кальвинисты. Слово "свобода" не сходит с уст голландцев семнадцатого века. "Без свободы мысли, - говорит великий философ-материалист Голландии Спиноза, - не могут развиваться науки и искусства, ибо последние разрабатываются со счастливым успехом только теми людьми, которые имеют свободу и непредвзятое суждение". Конечно, Голландия была далека от осуществления этого идеала, но голландцы ценою своей крови отвоевали реформацию, вылившуюся в форму религиозной борьбы против католической церкви - опоры феодализма. Реформация наложила на победивших голландцев печать не только тихого и высокомерного благородства, но также и уныния. Эти быстро образумившиеся новаторы больше всего опасаются, как бы в будущем не нарушилось установившееся однообразие их существования. Они допускают свободу мысли, но не допускают свободы поведения. Освободив идеи, они наложили цепи на поступки. Окинем взглядом живопись Голландии, какой застал ее Рембрандт. Почти все великие самобытные художники Голландии родились в то же время, что и он, то есть в начале семнадцатого века, когда основанное в 1581-ом году самостоятельное голландское государство устранило всякие опасности, обеспечило окончательную победу нации, и человек, чувствуя величие своих деяний, открыл перед грядущими поколениями широкий простор, завоеванный его великим сердцем и могучими руками. Буржуазно-республиканский строй и кальвинистская церковная реформа предопределили две важные особенности голландской живописи. Во-первых, почти полное отсутствие влияния придворной культуры. Во-вторых, чисто светский характер образов. Если в других странах реакция использовала искусство как оружие буржуазной пропаганды, то кальвинизм, по существу, был безразличен к искусству. Поэтому изображение наготы, столь привычное для живописи католических стран, в первую очередь Италии, здесь исчезает. Иная живопись пользуется особенной любовью в Голландии. Для людей, наделенных реалистическим складом ума, при господстве республиканских нравов, в стране, где корабельный мастер мог стать вице-адмиралом, наиболее интересным сюжетом для живописи стал гражданин, человек из плоти и крови, не нагой или полураздетый по-гречески, но в своем обычном костюме и обычном положении, какой-нибудь видный общественный деятель или храбрый офицер. Героический стиль имеет применение лишь в больших портретах, украшающих городские ратуши - здания городского самоуправления - и общественные учреждения в память оказанных услуг. Зато в Голландии пышно расцветает низкий, презренный для академиков вид так называемой "комнатной живописи" - небольших картинок, которые призваны украшать дома частных лиц. Это и есть та станковая живопись, о которой мы говорили и будем говорить, живопись, произведения которой изготовляются на станке, мольберте. Станковые картины становятся в Голландии предметом усердного собирательства и страстной торговли. Французский путешественник Сорбьер пишет, что "голландцы затрачивают на покупку картин большие деньги, чтобы выручить за продажу их еще больше". В Голландии картины продавались на ярмарках, где ими шла бойкая торговля, потом стали устраивать публичные торги собраний картин. Цены были то низкие, в два гульдена за картину, то поднимались до четырех тысяч гульденов (один гульден - примерно двадцать пять копеек). Некоторые художники отдавали картину в обмен на бочку вина. "Нет такого бедного горожанина, - говорит современник, - который не желал бы обладать многими произведениями живописи". Какой-нибудь булочник платит шестьсот гульденов за одну фигуру, принадлежащую кисти Вермеера из Делфта. В этом вместе с опрятностью и уютностью жилища - их роскошь. Они не жалеют на это денег, предпочитая сокращать расходы на еду. Таким образом, хотя голландцы и внесли в торговлю свою деловитость, а порой и жажду наживы, но, конечно, этим далеко не определялся характер их творчества. "Если у голландцев больше картин, чем драгоценных камней, - замечает Сорбьер, - то лишь потому, что картины больше радуют взор и служат лучшим украшением помещений". Голландская живопись семнадцатого века оказалась новой ступенью в развитии мировой художественной культуры. Оставив скромное место мифологическим и религиозным темам, нарушив многовековую европейскую традицию, голландские живописцы обратились к непосредственному изображению быта и родной природы. В картинах величайших голландских мастеров современников Рембрандта - перед зрителем раскрывается вся жизнь. Веселые, бодрые офицеры-стрелки, овеянные романтическим духом недавней освободительной борьбы, смотрят на нас с ранних портретов Франса Хальса, где множество, казалось бы, беспорядочных мазков сливаются в живые образы людей. Но в портретах Хальса представлены и другие слои общества - бюргеры, ремесленники, представители низов общества. На стороне последних его особенные симпатии, и в их изображениях он проявил особенную глубину своего мощного, полнокровного дарования. Бесшумно и неторопливо течет жизнь в уютных аристократических домиках, запечатленная кистью Вермеера Делфтского. Этот лучший в мировом искусстве мастер интерьера делает каждый предмет обстановки, каждую складку ткани носителями художественной красоты. Обладая глубоким поэтическим чувством, безукоризненным вкусом, поразительно зорким глазом, филигранной техникой, Вермеер добивался поэтичности, цельности и красоты образного решения, огромное внимание уделяя передаче световоздушной среды. Одним из величайших пейзажистов мира был Якоб ван Рейсдаль, одухотворивший свои картины большими личными чувствами и настроениями. В его пейзажах в искусство входит новая черта, которой не знало более раннее искусство. Он открыл красоту, преимущественно грустную и тревожную, в бесплодных песчаных дюнах и болотах, в сером облачном небе. Рейсдаль ничего не преувеличивал, сам оставался как бы в тени, но природа у него одухотворенная и живая. Таким же влюбленным оком созерцает скромную голландскую природу Ян ван Гойен. Пасмурное приморское небо, написанное серыми сдержанными красками, обычно занимает две трети картины. Тончайшие переходы серебристых оттенков, начиная от почти белых и кончая темно-жемчужными, создают иллюзию пронизанных светом и воздухом облаков. У горизонта небо светлеет и сливается с уходящей вглубь картины бескрайней равниной, погруженной в серый туман дождливого дня. Полноводные широкие реки, парусные лодки рыбаков, качающиеся то здесь, то там на зыбкой глади воды, стада, большекрылые мельницы - такова Голландия Гойена. Голландская живопись распадается на ряд школ; каждый из городов имеет своих живописцев, свою школу. Амстердам был самым крупным художественным центром. Он успешно конкурировал даже с Гарлемом, где в это время развивал свое творчество неутомимый Франс Хальс, чье художественное наследие своей остротой и мощью вывело голландскую живопись на европейскую арену. В Амстердаме работали мастер мифологического жанра Ластман, портретист Ван дер Гельст, мастер натюрморта Кальф, мастера бытового жанра Терборх и Метсю. Живопись "малых голландцев", как называют большинство живописцев - современников Рембрандта, за исключением Хальса и Рейсдаля, поражает разнообразием своих тем. Чинные пузатые бюргеры в черных кафтанах и белоснежных, крахмальных воротниках, грузные матроны взирают на нас с портретов Ван дер Гельста. Порой мы как бы невзначай заглядываем в раскрытое окно дома, где в глубине у очага суетится морщинистая старуха, Питер де Гох. Особенно охотно ведут нас художники в богатые дома. Мы вступаем в опрятную, светлую горницу, порой в отсутствие хозяев, и только по изящным туфелькам или торопливо сброшенной бархатной кофте узнаем о ее обитательнице. Нередко мы присутствуем при утреннем вставании дамы или кавалера. Служанки оправляют постель, хозяйка забавляется с собачкой или умывает руки, Терборх. Порой мы становимся нечаянными свидетелями семейных сцен. Изящной девушке доставлено с нарочным письмо, конечно, от ее кавалера, и она с лицемерным равнодушием пробегает глазками его строчки. Или отец делает внушение своей хорошенькой дочке, а она с деланной покорностью выслушивает отца, кокетливо повернувшись спиной к зрителю, чтобы ему был виден ее атласный наряд и ее белая, стройная шейка, Терборх. Свой досуг это светское общество охотно заполняет музыкой. Мужчины играют на скрипке, женщины аккомпанируют на клавесине, Метсю. Порой художники подводят нас через полутьму первого плана интерьера к ярко освещенному сервированному столу, где сверкают, гордость дома, хрустальные бокалы, где матовым блеском играют серебряные блюда, где аппетитно разложены изысканные яства и свежие фрукты, Клас Хеда и Кальф. Либо ведут на кухню, где стоят глиняные кувшины, свежеочищенная селедка, лежит лук, Бейерен. В натюрморте Бейерена самое светлое пятно - лежащая на столе белая салфетка. От нее словно исходит свет на другие предметы. Благодаря рефлексам, они становятся светлее, и создается впечатление, что вещам свободно и легко дышится в отведенном им небольшом воздушном пространстве за изобразительной поверхностью натюрморта. Нам показывают и просторный протестантский храм с его голыми стенами, на которые протестанты никогда не вешали икон. Видимо, художник рассеянно слушал проповедника, но он живо следил за тем, как солнечные лучи выбивались из-за колонн и играли на квадратных, цветных плитах пола, де Витте. Мы заглядываем в шинки, где идет веселая перебранка, и хохочут смешные деревенские пьянчуги-музыканты, ван Остаде. Порой отправляемся за город, где под зеленой сенью устраивается пирушка, Стэн. Где в жаркий день влезают в воду голые тела с мирно отдыхающим стадом, Поттер. Иногда нам показывают краешком войну: происходят стычки кавалерии, мелькают пестрые костюмы военных, но над ними всегда спокойное и высокое облачное небо, Воуверман. С первого взгляда можно подумать, что вся жизнь Голландии, как в беспристрастном зеркале, отражена в ее живописи. Но это было не так. "Голландское искусство, - говорит французский поэт Клодель, - как и искусство других школ, отличается определенной предвзятостью". Действительно, голландские мастера избегают зрелищ, где проявляется действие грубой и жестокой силы, где обнаженно царит дикая страсть к накоплению и обогащению, жажда наживы, которая в действительности была движущей силой жизни! Они редко ведут нас на биржу, умалчивают о колониальных завоеваниях, почти не показывают трудовую жизнь голландского крестьянства, которое, как указывал Карл Маркс, было в семнадцатом веке в очень тяжелом положении. Голландские жанровые картины отражают жизнь не такой, какой она уже сложилась в их век, а такой, какой ее хотелось бы видеть представителям тогдашней буржуазии. Недаром все сюжеты укладываются в рамки четко разграниченных жанров, как бы граней того кристалла, через который художники видели мир. Требования жанра властно определяют и отношения мастеров к определенным темам. В бюргерском интерьере непременно должны царить благопристойность и покой. Крестьяне обычно выглядят драчунами и забияками. В пейзаже главное - это высокое облачное, но спокойное небо. В натюрморте - вкусные яства, блистающие чистотой предметы. Эти жанры при всей их условности приобрели в Голландии общеобязательный смысл: собиратели картин заботились не о том, чтобы в их коллекциях были представлены разные мастера, но в первую очередь стремились иметь по одному ото всех жанров живописи. Трудясь над задачами живописного выражения окружающего мира, голландцы выработали особое живописное мастерство. Основная черта их картин - это легкость их восприятия. Зрителю нет необходимости делать усилие, всматриваться, догадываться, припоминать. В картинах обычно все залито ровным, спокойным светом: все предметы показаны с той стороны, откуда их легче всего узнать. Это обеспечило такое широкое признание "малым голландцам" и среди потомства. Это отличает от них Рембрандта с его картинами, овеянными мраком, в которых предметы узнаются не сразу, требуют усилия воображения зрителя, а значит, заставляют его самого стать немного художником. "Малые голландцы" в своих картинах нередко стремятся создать обманчивое впечатление, будто зритель, оставаясь незамеченным, наблюдает жизнь посторонних людей; между тем, эти люди ведут себя так, словно каждую минуту ждут посетителя. Картины "голландцев" всегда занимательны, как новеллы. Недаром впоследствии некоторые писатели пытались пересказать их словами. Но за редкими исключениями мы не находим в них событий, которые уводили бы далеко за пределы представленного, возбуждали бы наши догадки о том, что было до момента, увековеченного художником, что произойдет после него. Голландские мастера усматривают привлекательность и смысл жизни в непосредственно увиденном и замеченном. Для усиления ряда "голландцы", как правило, помещают главную фигуру в среднюю часть картины. Поэтому она придает картине устойчивый характер, и наше внимание лишь постепенно распространяется в другие стороны, на другие персонажи. Если "голландец" изображает интерьер, он может не обязательно соблюсти строгую симметрию, но при обычном в домах того времени симметрическом расположении дверей, их проем в одной части картины уравновешивается группой фигур в другой, ей противоположной, то есть обе эти части картины оказываются симметричными относительно средней вертикали. Все это выполняется в высшей степени технично и с точки зрения линейной перспективы абсолютно правильно. Имея в руках такое совершенное мастерство, как было не увлечься задачей зеркально точного воспроизведения внешнего мира? В обстановке все больше побеждавших буржуазных отношений и голого расчета, как было избежать трезвого, прозаического отношения к жизни в искусстве, которое так обнаженно проявилось у поэта голландского мещанства папаши Катца? Нужно сравнить "Интерьер" Питера де Гоха с любым интерьером Рембрандта, хотя бы с "Жертвоприношением Маноя", или "Святым семейством", и нам бросится в глаза в самой манере первоклассного "малого голландца" что-то мелочное, сухое, трезвое, и как много в ней робкой прозы, и как глубоко и одухотворено создание действительно гениального мастера. И в Амстердаме, этом городе предрассудков, условностей и строжайших правил Рембрандт Гарменц ван Рейн пытается создать искусство самостоятельное, фантастическое, языческое! После переезда в Амстердам основные черты искусства Рембрандта сказываются со всей определенностью. Круг его изображений охватывает религиозные сюжеты, историю, мифологию, портрет, бытовой жанр, анималистический жанр (посвященный животному миру), пейзаж, натюрморт. В центре внимания Рембрандта все же стоит человек, психологически верная передача характеров и душевных движений. Свои наблюдения он фиксирует то в рисунках, то в живописных этюдах, то есть в подготовительных материалах к фрагментам картин, написанных красками. Идя этим медленным, но последовательным путем, Рембрандт приходит к первому крупному произведению, написанному им в Амстердаме - картине "Урок анатомии доктора Тульпа", 1632-ой год, ныне картина находится в гаагском музее Маурицхейс. Групповой портрет был специфически голландским вариантом крупного живописного произведения. Предназначенный для размещения внутри общественных зданий, он заменяет монументальную живопись, которой в Голландии не было, в то время как она переживала бурный расцвет в Италии в эпоху Возрождения. Так в 1508-1512-ом годах гениальный итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт Микеланджело Буонарроти, годы жизни 1475-1564-ый, выполнил монументальную фресковую роспись потолка Сикстинской капеллы ватиканского дворца в Риме. Ее размеры превышали шестьсот квадратных метров, сорок восемь метров в длину и тринадцать в ширину. В невероятно трудных условиях, четыре года подряд ежедневно взбирался Микеланджело на высокие леса, ложился на спину и один, без помощи помощников, красками и кистью воссоздавал библейскую легенду о событиях от сотворения мира до потопа. Фрески Микеланджело, посвященные космогонии, занимают особое место в мировой культуре. Бог в трактовке Микеланджело - это вдохновенный творец, ничем не ограниченный в своих замыслах и созидающий из хаоса Вселенную. Он врывается в мир и отделяет свет от тьмы. В бешеном порыве он создает небесные тела, силой своей воли творит растения и животных. Свой труд он венчает созданием человека. В соответствии с расчленением сводов потолка, Микеланджело разбил свою гигантскую композицию на ряд полей, разместив в самом широком центральном поле девять самых изумительных изображений, насыщенных титанической творческой силой своего гения: "Отделение света от тьмы", "Сотворение Адама", "Сотворение Евы" и "Грехопадение, изгнание из рая". Недаром Микеланджело наделил Бога руками скульптора, привыкшего работать тяжелым отбойным молотком, в то же время он сообщает ему не только небывалую силу, но и стремительность. Если в образе Бога Микеланджело подчеркнул могучий творческий импульс, который вносит гармонию и смысл в хаос, то размещенные в двух боковых полосах росписи гигантские фигуры пророков и сивилл - прорицательниц - это апофеоз духовной жизни человека. Так пророк Иеремия сидит напротив нас, скрестив ноги. Правой рукой он стиснул подбородок, голова упала на эту руку, опирающуюся локтем в колено, глаза опущены, они ничего не видят и не хотят видеть. Он уронил другую ругу к полу, и погрузился в думу, глубокую и поглощающую. Резня повсюду, потоки крови, истребление людей, разгул свирепости, жадности, предательства - всего темного, что может быть выплеснуто со дна человеческой души. Варварство, воскресшее в более уродливой форме, чем всегда. Голод, массовые изгнания, нищета, мор, гибель огромных материальных и духовных ценностей, и не видится этому конца, - вот что доносилось до Микеланджело, пока он сидел на своих подмостках в Ватикане, испачканный известкой и красками, не раздеваясь для сна, не моясь, плохо питаясь и работая, работая, работая. В общей сложности Микеланджело создал на потолке Сикстинской капеллы триста сорок три фигуры - целый народ, целое поколение гигантов, где есть и старики, и юные, и женщины, и младенцы - это нечто вроде своего рода энциклопедии пластики, завещания всем будущим живописцам и скульпторам. На фреске "Сотворение Адама" слева на полукружии пригорка, символизирующего край земного шара, представлен на фоне клубящихся облаков полулежащий обнаженный человек. Он прекрасен, его мускулы развиты, но еще не обладают энергией, тело его бездушно. Старец Бог справа наверху, несомый ангелами из глубины космоса, в развевающихся одеждах, окружающих его наподобие паруса, несется мимо человека и касается рукой его поникшего пальца. Словно электрическая искра объединяет тело летящего Саваофа с сотворенным им человеком, который на наших глазах наполняется душой и разумом. На следующей фреске Бог творит женщину. Повелительным жестом он заставляет Еву подняться навстречу жизни. В Голландии подобному искусству не было места. Впервые в истории ощутив себя хозяевами жизни, торговцы и ремесленники стремились стать героями искусства сами, и им не нужны были боги и герои античных мифов и библейских сказаний. Живописцы должны были оставить потомству многочисленные изображения реальных заказчиков. Бюргеры портретируются и порознь, и с женами, и с детьми, и, наконец, целыми корпорациями. Заказ на групповой портрет - самый почетный и выгодный, какой мог выпасть на долю голландского художника. Рембрандт получил задание изобразить лекцию по анатомии руки популярного в Амстердаме врача, доктора Тульпа, прочитанную в конце 1631-го года перед членами амстердамской гильдии хирургов, с демонстрацией на трупе казненного преступника Ариса Кинтда. В Голландии того времени подобная анатомическая демонстрация служила общественным развлечением. Ей предшествовала публичная казнь преступника, чей труп поступал в анатомический театр, то есть помещение для анатомирования трупов, а позже, вечером, гильдия хирургов устраивала банкет и факельное шествие. Стремясь зафиксировать все индивидуальные особенности портретируемых, художники точно следовали натуре и давали несколько застывшее изображение с тщательной реалистической передачей черт лица и костюмов, единственным украшением которых были белые воротники. Главное, что интересовало художников - достигнуть портретного сходства. Таким образом, эти посредственные мастера изображали своих героев механически, ничего в них не изменяя, подобно современным фотографам. По-иному подошел к раскрытию темы Рембрандт, внесший в нее активность самого способа изображения. Картина Рембрандта "Урок анатомии" (длина двести семнадцать, высота сто шестьдесят три сантиметра), решена в скупой черно-белой гамме, слегка расцвеченной оттенками желтовато-коричневого цвета. Поток света от зрителя, как бы проникая сквозь прозрачную пленку изобразительной поверхности картины, вливается в полутемную аудиторию. В глубине виднеются очертания слабо освещенной внутренней арки помещения, сдвинутой от главной вертикальной оси изображения влево. Еще сильнее влево сдвинута группа семерых врачей на первых планах; они слушают лекцию. Полукольцом, изгибающимся вглубь левой половины картины, эти бородатые медики с обнаженными головами, окаймленными снизу белоснежными жабо (роскошными кружевными воротниками), обступили стоящий по диагонали, направленной из правого нижнего угла картины, невысокий дощатый стол, на котором лежит на спине обнаженный труп. Его бедра слегка прикрыты белой тряпкой. Единым чувством объединены слушатели доктора Тульпа, стоящего справа от главной вертикали картины, за ногами трупа, и демонстрирующего сухожилия и мускулы на препарированной левой, дальней от зрителя, руке свежего покойника. Оттянув похожим на ножницы металлическим пинцетом, который он зажал в пальцах правой руки, ярко-желтую мышцу, которая управляет движениями пальцев, другой рукой он показывает, как действует эта мышца - и действительно, сейчас растопыренные ярко-красные пальцы мертвеца согнутся. Заинтересованные действиями и словами ученого доктора, слушатели сравнивают скрытую ниже локтя руку Ариса Киндта с рисунками из громадного анатомического атласа Везалия, раскрытого на нужной странице. Атлас - толстая книга - находится рядом с нами, в правом нижнем углу картины, в ногах покойника. Корешком книга опирается на правую часть рамы, а рисунками повернута к медикам, поэтому нам видны не рисунки, а только часть разъяснительного текста на соседней странице. Итак, все семеро участников демонстрации изображены слева от главной вертикали полотна; все они одеты и пострижены по единой моде - короткие, зачесанные назад волосы, усы, бородка клинышком. Но физиогномические опыты ранних лет помогли Рембрандту показать своеобразную реакцию каждого из врачей. Подчеркивая напряженное внимание слушателей и обособляя фигуру ученого, Рембрандт как бы героизирует и участников портретной группы, и само объединившее их событие, придавая ему оттенок героической значимости. И, однако, Рембрандту и здесь еще не удается окончательно добиться цели. Внимательно вглядываясь в позы и лица, мы без труда почувствуем, что они не вполне соответствуют настроению минуты, которую, казалось бы, должны переживать все изображенные люди. Стремясь создать иллюзию полной реальности, художник делает участником события самого зрителя. Мы как бы входим в аудиторию во время лекции, и двое из слушателей - первый и пятый от Тульпа, оба на дальнем плане - оглянулись в нашу сторону. Застыл в центре заднего плана в искусственной позе, как бы привставая с загороженного другими сидения, ближайший к доктору персонаж - Гартман Гарманс; он приподнимает руку с зажатым в нем листом бумаги, демонстрируя нам список врачей, изображенных на картине. Порывисто наклонился вправо, поближе к трупу, третий от Тульпа врач, Якоб де Витт, но его взгляд говорит о размеренной, спокойной задумчивости, никак не соответствующей положению его подавшегося вперед туловища. Отсутствующим взглядом взирает на нас Франс ван Лунен - пятый ученик, если считать влево от доктора; Лунен, находящийся позади и выше всех, по-видимому, не стоит, а сидит на верхней скамье. Зато во втором от доктора слушателе при внимательном взгляде уже с полной ясностью обнаруживается та отдаленная перспектива, тот оттенок чего-то живого и неуловимого, неопределенного и пламенного, что составляет сущность гения Рембрандта. Мы видим только его голову. Все остальное серо, затушевано, да и само лицо превосходно построено без видимых контуров, оно как бы вылеплено изнутри и насквозь проникнуто той особенной, бесконечно тонкой жизнью, которую один Рембрандт умел открыть под внешней оболочкой вещей. Этого персонажа зовут Якоб Блокк. Он очень живо, остро реагирует на рассказ Тульпа, зорко, пытливо следит его тревожный взгляд за движением руки профессора, выдавая цепкую работу мысли и остроту восприятия. Это единственный в картине до конца удавшийся образ. Именно выразительное лицо Блокка, помещенное Рембрандтом немного левее самого центра изображения, создает впечатление той общей увлеченности аудитории, которая возникает при первом взгляде на картину. Другая, безусловно живая фигура картины, одна из самых реальных, которая вышла, так сказать, лучше всех, если иметь в виду то чистилище, через которое должна пройти всякая написанная художником фигура, чтобы проникнуть в царство искусства - это доктор Тульп. В нем, насколько нам известно, лучше всего передано и сходство. Доктор Николас Тульп выделяется среди героев картины своим широким силуэтом, свободным, изящным, профессионально уверенным жестом рук. На нем широкополая темная шляпа; у него красивое лицо с закрученными темными усиками и остроконечной бородкой. И воротник у него не такой, как у остальных - не пышное жабо, доходящее до плеч, но сравнительно узкий прямоугольный отложной воротничок с таким же четким контуром, как и такие же ослепительно белые отложные манжеты. Тульп деловит, сдержан, предельно точен и в то же время оживлен и уверен. Но даже доктор Тульп, несмотря на его внешнюю оживленность, несмотря на одухотворенность, которую легко прочесть в его широко раскрытых карих глазах, даже он несколько противоречит психологии картины - он не смотрит ни на слушателей, ни на труп, ни на вошедшего зрителя, ни на свои руки. Принесший славу Рембрандту "Урок анатомии" был во многом произведением новаторским. Рембрандт впервые задумывает групповой портрет как некое драматическое событие, основанное на полном единстве переживаний и тесном взаимодействии всех действующих лиц. Картина воспринимается не как тщательно задуманный по композиции групповой портрет, а как убеждающий непосредственностью жизненный эпизод. "Урок анатомии" одним ударом проливает на талант Рембрандта полный свет, подобный тому, каким Рембрандт осветил действующих лиц этой картины. Здесь он создал изумительное произведение искусства, несмотря на его многочисленные недостатки, которые не позволяют признать его бесспорным образцом. Как мы уже знаем, гамму красок, которую используют художники, можно условно разделить на теплые и холодные. Общий тон картины Рембрандта "Урок анатомии" не холоден и не горяч, он желтоват. Красок мало, и поэтому общий эффект цветовых отношений резкий за счет светотени, но не сильный из-за скупости палитры. И нигде - ни в тканях, ни в фоне, ни в атмосфере всей картины не чувствуется какого-либо богатства тонов. Нижняя часть картины - так называемый первый план - сильно затемнена. И по контрасту с ним лежащий под средней горизонталью труп кажется освещенным особенно сильно. Вместе с тем выразительность замысла художника в этом его первом групповом портрете, несомненно, снижается внешней экспрессией большинства действующих лиц и указующим жестом крайнего сзади слушателя. Резкие повороты голов, преувеличено вытянутые шеи слушателей и устремленные мимо лектора и его демонстрации равнодушные взоры мешают убеждению в подлинной заинтересованности всех присутствующих. В особенности же не удался художнику отличающийся грубым прозаизмом, вздувшийся, положенный на спину ногами к зрителю труп, зеленоватый тон которого накладывает отпечаток на весь колорит картины. Картина имеет также символический подтекст. Его можно сформулировать как "триумф истины", победу знания, олицетворенного в докторе Тульпе; истина торжествует над смертью и грехом, воплощенном в трупе Ариса Киндта. Для зрителя наших дней символические ассоциации такого рода более не существуют, зато тем понятнее для него жажда научного познания, атмосфера увлекательного исследования, переданная Рембрандтом. Это содержание, непривычное в живописи до Рембрандта, прямо связано с важнейшими чертами духовной культуры эпохи. Семнадцатый век - время, когда не только теоретические, но и экспериментальные науки делают гигантский шаг вперед, когда опытное знание кладется в основу философских систем, время Декарта и Ньютона, Паскаля и Лейбница. Картина Рембрандта - яркое выражение духовных устремлений его современников. По мнению некоторых критиков, три знаменитые картины - "Урок анатомии", 1632-ой год, "Ночной дозор", 1642-ой год, и "Синдики", 1661-ый год, представляют собой три манеры письма Рембрандта. Это деление имеет то преимущество, что оно вносит определенный метод в сложное и трудное исследование произведений Рембрандта, но оно в то же время является рискованным и поверхностным. Рембрандт никогда не менял манеры письма. Он не подчинялся в живописи никаким влияниям, за исключением Ластмана. Он развивался вполне самостоятельно и материал для изменений черпал только из действительности и из самого себя. Таким образом, можно сказать, что у Рембрандта была одна манера - его собственная, или что у него их было бесконечное множество, смотря по тому, принимать ли во внимание его постоянное и непрерывное развитие, или его необычайное обновление из пятилетия в пятилетие, а иногда из года в год. Несомненно, что портреты, написанные в то же время, лучше, чем "Урок анатомии" доказывают, каким проницательным и сильным наблюдателем был уже Рембрандт в двадцать пять лет. Свежие, смелые произведения молодого художника до известной степени поражали, но, несомненно, и очаровывали современников. Рембрандт становится центром кружка последователей, стремящихся овладеть колористическими секретами рембрандтовской палитры. Фердинанд Боль, Карел Фабрициус и другие работали под руководством Рембрандта и развивали его манеру. Под мастерскую Рембрандт снимал обширный товарный склад, который при помощи бумажных и парусиновых перегородок разделялся на камеры, где каждый из учеников мог работать, не мешая другому. Изучение живой натуры выдвигалось на первый план, причем Рембрандт рекомендовал избегать искусственных поз, которые являлись обычным школьным достоянием. Для распространения его композиций ученики делали с них офорты, предназначенные к продаже. Они занимались также копированием работ учителя, и такие копии Рембрандт часто проходил своей кистью. Успех "Урока анатомии" привлек в мастерскую Рембрандта некоторых известных и знатных амстердамцев, впрочем, вскоре ее покинувших. Рембрандт запечатлевает их в портретах, свободных по тону и отделке. В это время его моделями были: доктор Тульп, поэт Ян Круль, государственный секретарь Морис Гюйгенс, бургомистр Пеликорн и его жена Сюзанна ван Коллен, пастор Алансон и его супруга и, наконец, Мартин Дай и особенно его жена Матильда ван Дорн, атласный костюм которой, по-видимому, выбран самим Рембрандтом, настолько он блещет ювелирной роскошью. Рембрандт на короткое время становится портретистом знатного голландского бюргерства и в несколько месяцев затмевает всех своих конкурентов, заказы сыплются со всех сторон. Теперь самые влиятельные, богатые граждане Амстердама добиваются, чтобы Рембрандт запечатлел их облик на своих картинах. Знатные господа, купцы, проповедники терпеливо ожидают очереди для позирования. Среди них и богатый амстердамский купец Николас Рютс, и купец Мартин Лоотен, совершавший свои сделки в Лейдене и Амстердаме, и купец из Данцига, и богатый кондитер из Амстердама. Рембрандт создает портреты английского проповедника Джона Элисона и его жены, богатого бюргера Мартина Солманса, принца Фредерика Хендрика и многих других. Рембрандт добросовестен и доволен сознанием того, что мировой город в нем нуждается. За два года он пишет более пятидесяти заказных портретов, не считая тех картин, гравюр и рисунков, которые выполняет для собственного удовольствия. Чтобы конкурировать с первыми живописцами Голландии, он должен был работать, приноравливаясь к их манере, ибо к ней привыкла публика. Поэтому парадные портреты 1632-1634-го годов наименее характерны для творчества Рембрандта. Ряд деловитых мужчин в широкополых шляпах и в темных монотонных костюмах и женщины в металлических панцирных корсетах с неподвижными белоснежными кружевными воротниками и накрахмаленными чепцами смотрят на нас с этих полотен. Рембрандт превосходно передает в своих произведениях фактуру шелков и бархата, драгоценных украшений и кружевных манжет, что особенно ценили знатные заказчики. В парадных портретах Рембрандта 1630-ых годов нет светотеневых экспериментов лейденского периода, всюду полное дневное освещение, не видно резких движений, фантастических костюмов. С уважением подходит молодой мастер к своей знатной модели и прилежно изучает ее, не заслоняя собственным "я". Только на основе такого подхода могло развиться глубоко психологическое истолкование позднейших портретов. Длительная работа с натурой дала мастеру много технической уверенности, приучала его к самообузданию и внутренней выдержке. Одаренность Рембрандта позволяла ему еще в молодости достигать такого совершенства, создавать такие шедевры, которые вполне выдерживают сравнение с поздними произведениями художника, вошедшими в сокровищницу культурных ценностей человечества. Например, относительно парадных портретов Мартина Дая и его жены, двух внушительных панно, то есть произведений, предназначенных для украшения стен архитектурных интерьеров, трудно сказать, имеют ли они такую же или меньшую ценность, чем лучшие поздние портреты Рембрандта. Во всяком случае, они более неожиданны и гораздо менее известны, потому что имена изображенных лиц привлекали к ним меньше внимания. Один из них - портрет Мартина Дая (высота двести десять, ширина сто тридцать пять сантиметров), сделан в 1634-ом году, два года спустя после "Урока анатомии"; другой - портрет Матильды ван Дорн (высота двести девять, ширина сто тридцать четыре сантиметра) - в 1643-ем году, через год после знаменитого "Ночного дозора", то есть тогда, когда обстоятельства жизни художника резко изменились и, потрясенный всем случившимся, он вступил в новый период творчества. Девять лет отделяют эти портреты друг от друга, а между тем кажется, что они задуманы в один и тот же час; и если ничто в первом портрете не напоминает о том робком, прилежном и сухом желтоватом периоде, самым значительным образчиком которого остается "Урок анатомии", то ничто также, решительно ничто во втором портрете не несет в себе следов тех дерзких опытов, которые начал Рембрандт "Ночным дозором". Вот какова, в самых общих чертах, действительная ценность этих двух замечательных вещей. Мартин Дай, собрание барона Ротшильда в Париже, стоит лицом к зрителю, несколько выставив вперед левую ногу. Он в черной фетровой шляпе, в низком белоснежном кружевном воротнике, в короткой черной куртке с короткими белыми кружевными манжетами, в черных панталонах с белыми кружевными бантами на подвязках ниже колен и такими же бантами на черных башмаках. Его правая рука (на картине слева) согнута в локте, кисть ее скрыта под расстегнутым черным французским плащом, отделанным черным шелком. В левой руке, вытянутой вперед (вправо от зрителя), он держит светлую замшевую перчатку. Фон черноват; паркет - серый. Красивая, несколько округленная голова с кротким и серьезным выражением; красивые глаза с ясным взглядом; темные волосы, зачесанные на прямой пробор, завитые локонами и касающиеся плеч. Рисунок очаровательный: широкий, легкий и в высшей степени естественный. Живопись ровная, твердая в контурах, такая плотная и сочная, что она кажется одинаково безупречной, наложены ли краски тонким или густым слоем. Социальное положение изображенного лица обозначено необычайно тонко. Это не принц, даже едва ли вельможа, это - родовитый дворянин: прекрасно воспитан, с изящными манерами. Поиски обязательной оригинальности, асимметрия, огромное количество украшений, нарушение привычных пропорций, стремление к внешнему эффекту, желание быть всегда неповторимым, ни на кого не похожим - вот внутреннее содержание Мартина Дая. Происхождение, возраст, темперамент и, наконец, душевная пустота в сочетании с бросающейся в глаза, но неуклюжей роскошью наряда - одним словом, вся жизнь аристократа, все, что в ней есть наиболее характерного, все это вы найдете в этом глубоко правдивом произведении. Его жена, Матильда ван Дорн (картина из того же собрания), изображена также на черном фоне. Она стоит на сером паркете, также вся в черном, в жемчужном ожерелье, с жемчужным браслетом, филигранными пряжками на поясе и на тонких туфлях из белого атласа. Она худощава, бледна и высока. Ее красивая, слегка наклоненная влево голова смотрит на вас спокойными глазами, и неопределенный цвет ее лица придает особенную яркость белокурым волосам. Легкая полнота стана, целомудренно намеченная под широким и длинным платьем, придает ей вид почтенной замужней женщины и матери-матроны. В правой руке она держит веер из черных перьев с золотой цепочкой; левая рука опущена - это тонкая, удлиненная рука, полная благородного изящества. Черное, серое и белое - одна светотень, одни лишь градации и тональные переходы между черным и белым, ничего боле, и это - в живописи! Цвет почти отсутствует, но общий тон портрета выдержан бесподобно. На картине не нарисована атмосфера, а между тем чувствуется воздух. Рельеф ослаблен, и, тем не менее, выпуклость форм передана с совершенством; неподражаемая манера быть точным, не впадая в мелочность, противополагать самую тонкую работу самому обширному целому, выражать тоном роскошь и великолепие вещей. Одним словом, меткость глаза, чуткость кисти, которые могли бы создать всеевропейскую славу мастеру - вот те удивительные качества, до которых, работая в жанре заказного портрета, возвысился тот же художник, который написал "Урок анатомии". В Амстердаме продолжается период успеха, признания, богатства, совпадающий со временем личного счастья художника. В 1634-ом году он, сын мельника, плебей по происхождению, чей отец не имел никаких других званий, кроме "сын Герритса", неведомо по какой счастливой случайности женится на страстно любимой девушке, знатной патрицианке Саскии ван Эйленбурх, которая насчитывает среди своей родни магистратов, писателей, советников и даже художника Вибранта де Хеста, представленного в Штутгартском музее прекрасной картиной. Саския рано осталась сиротой. Одна из шести ее сестер взяла ее к себе. Саския вышла замуж двадцати двух лет. Из дошедших до нас документов видно, что отца Рембрандта в это время уже не было в живых; таким образом, согласие на его брак последовало от одной лишь матери. С какой радостью, с каким воодушевлением, с каким неистовством ввел Рембрандт Саскию в свой дом на Блюменграхте, где многочисленные ученики заполняли его мастерскую, являясь свидетелями признанного уже мастерства Рембрандта. Праздники, судя по всему, сменялись праздниками, как счастливые дни сменяются тревожными. Порядки и законы, столь нерушимые для амстердамских мещан, не существовали для дружной семьи художника, во главе которой стоял восходящий гений. Все с восторгом приветствовали пришествие юной и пламенной царицы, всецело преданной любви и ее триумфам, как новую эру добровольного подчинения веселому деспотизму. Рембрандт, в силу своего страстного и необузданного темперамента, должно быть, принадлежал к числу мужчин, которые охотно признают себя побежденными перед взором женщины хотя бы потому, что они чувствуют себя слишком сильными. Без сомнения, он уступал ей во всем, чего бы ни потребовали каприз и фантазия, зародившиеся в беспредельной области женских прихотей. Со страстью и почитанием преклонялся Рембрандт перед женой. Она же, уверенная в своей власти, не страшилась роли жены и любовницы одновременно, и две человеческие воли, каждая принося свою жертву, загорелись общим восторгом. Саскию ван Эйленбурх ныне знает весь мир. В европейском искусстве она заняла то же место, что и Форнарина Рафаэля, Елена Фоурмен Рубенса, возлюбленная Тициана и певица Забела-Врубель - муза Врубеля. Все они не были красавицами - ни Саския, ни Забела, но бедным и плоским было бы без них наше представление о красоте и женственности. Неправильность задорного личика Саскии опьяненный счастьем Рембрандт и не думает скрывать. Когда началась жизнь его с Саскией, полная безумия и радости, он рисует ее так же, как до того рисовал себя, с тем же блеском и роскошью. Более того, Саския помогает ему реализовать его истинное искусство, искусство сверхъестественного и чудесного. Античный миф сообщает нам, как Прозерпину - дочь богини плодородия Цереры - похитил и взял в жены бог царства мертвых Плутон (Аид). В мифологической картине "Похищение Прозерпины", 1632-ой год, Берлин (высота восемьдесят два, ширина семьдесят восемь сантиметров), Рембрандт на гуманистических наслоениях своей образованности строит сцену из волшебной северогерманской сказки. Он бурно рвет официальные путы и вкладывает в переживания изображаемых четырех действующих лиц безудержную, совершенно не античную, наивную и немного неуклюжую страстность. В центре картины изображена падающая навзничь Прозерпина - юная белокурая красавица в светлой длинной одежде, выбранная хозяином подземного царства в богини. Отчаянно защищаясь, запрокинув голову, она впивается ногтями в красное бородатое лицо подхватывающего ее на руки закутанного во все красное бога тьмы; вцепившиеся в края ее бледно-желтой, с розоватыми оттенками одежды подруги (слева от нас) стремятся вырвать ее из объятий похитителя - но их отчаянные усилия напрасны. В ужасе влекутся они направо и к нам, за стремительно мчащейся золотой колесницей, под управлением уверенного бога готовой ввергнуться в пучину. Окружающий сцену пейзаж - громадный просвет чистого синего неба в левой половине картины, а под ним - буйная зеленая растительность, а вверху справа - верхушка фантастического дерева - дан драматически. Пространство картины полно движения - чернобородый властелин, привстав с колесницы и спокойно обернувшись назад, благодаря чему мы видим в профиль его пышущее здоровьем лицо, еще увереннее прижимает к себе бьющуюся в его исполинских объятиях жертву, и в такт ее движениям, как языки холодного пламени, дьявольски извиваются травы и деревья. Тем временем черные кони Аида несутся мимо нас в дымящуюся бездну, разверзающуюся за правым нижним углом картины, - и над этим входом в бездну сгущается черный дым, и такой же дым стелется над землей на задних планах, там, где промчался на своей колеснице Плутон. Таинственность преддверия царства теней заражает зрителя. Последний отблеск неживого солнца на мятущейся фигуре Прозерпины должен погаснуть в смолистой мгле дымящейся пропасти. Мы слышим шум травы, грохот маленьких металлических колес, конский топот, душераздирающий крик Прозерпины. В эти переживания вложено много личного: Рембрандт здесь - Плутон, Аид; как и бог подземного царства, он похищает свою невесту, Саскию. Но в этой картине, как и в других произведениях, действие которых происходит на открытом воздухе, при солнечном освещении, в пейзаже, еще отсутствует согласованность между бьющей через край силой воплощения идеи и филигранностью живописного исполнения. Картина написана так тонко и тщательно, что в траве первого плана можно различить каждый листик и каждую жилку, и так же педантично исполнены маковки цветов, размером не больше нескольких миллиметров, и тончайший рисунок растягиваемых подругам Прозерпины ее одежд, и развевающийся плащ Плутона. Но, может быть, это свадебные наряды Саскии и Рембрандта? Лучше всего мы знакомимся с Саскией по чудесному рисунку в Берлине, под которым собственноручная небрежная надпись Рембрандта гласит: "Это - портрет моей жены, когда ей был двадцать один год, на третий день после нашего обручения. Рембрандт. Год 1633-ий". Портрет интимный, домашний. Улыбающаяся девушка в широкополой соломенной шляпке, украшенной цветочной лентой, сидит за столом, облокотившись на него локтем левой руки; пальцами правой руки она вертит цветок гвоздики. У нее чисто голландский, простой тип лица, внимательные глаза, слегка мясистый носик, прелестные ямочки на щеках, припухлая нижняя губа. Можно думать, что Саския обладала всем тем, чего недоставало самому Рембрандту или было заложено в нем как тайное влечение, как желание. Рембрандт был тяжеловесен, флегматичен с виду, а тут перед ним позировало полное темперамента прелестное радостное существо в свежей, мгновенной позе предсвадебного кокетства. В Саскии восхищает плутоватость глаз и ротика, который, вероятно, также умел и дуться. Стройные, длинные пальчики левой руки тонко и легко лежат на виске, а мизинец играет с эластичной кожей под глазом. Рисунок исполнен так называемым серебряным карандашом, известном еще римлянам; он давал слишком светлые линии на бумаге, и потому классики Возрождения и Рембрандт чаще рисовали им по пергаменту. На примере рисунка Рембрандта, изображающего Саскию, можно убедиться, что серебряный карандаш позволял делать очень тонкую штриховку, тщательную проработку формы. Если бы не красновато-коричневый оттенок тончайших линий, рисунок можно было бы принять за оттиск с металлической доски. Рембрандт не только применяет ставшую старинной уже в его время технику серебряного карандаша по пергаменту, но и восходящие к искусству итальянского Возрождения приемы обрамления. Сверху рисунок закруглен, снизу, как пьедестал, горизонтальной чертой имитирующий верхний край стола, отделена нижняя треть рисунка, где и сделана надпись. Саския всегда рядом с ним, юная и сияющая. Бурные и нежные любовные ночи; дни, озаренные пьяной радостью творчества. Он пишет с каким-то самозабвением, без устали гравирует; любовь Саскии, безоблачное счастье их молодого супружества рождают в нем чувство всемогущества. Он стал знаменит, его чествовали, им восхищались! Он был в моде. Но всегда, среди любой работы его тянуло писать одну только Саскию. Пусть купцы и доктора дожидаются заказанных ими больших групповых портретов, - его любовь прежде всего! Порой, когда Саския хлопотала по хозяйству, он тихонько подкрадывался к полуоткрытой двери и восхищенным взором наблюдал за ней, а затем быстро и безошибочно запечатлевал ее образ на первом попавшемся под руку клочке бумаги, на серебряной или медной пластинке. Ему доставляло огромное удовольствие показывать потом Саскии, как и где он ее застиг. Ее удивление, ее радость приводили его в восторг, однако больше всего он любил заставать Саскию врасплох в ее тихой комнате. Он подхватывал ее на руки, и она шаловливо сопротивлялась и, смеясь от неожиданности, крепко прижималась к его груди. Он нес ее в залитую солнцем мастерскую и усаживал рядом с собой в самый сноп солнечного света, в котором плясали золотые пылинки. Оставшись с ней наедине, он жадными пальцами ощупывал ее фигуру, расстегивал платье и смотрел на Саскию таким дерзким взглядом, что она смущалась и краснела, но все же отвечала ему улыбкой. Он порывисто и жарко целовал ее, любуясь ее гладкой, отливавшей жемчужным блеском кожей там, где ее не скрывала одежда, потом торопливо приносил ворох блестящих шелков - парчу, атлас, шуршащий зефир золотистых, темно-синих, изумрудных и пурпурных тонов. Искусной рукой он проворно драпировал ее в эти шелка, и она представала перед ним какая-то совсем новая, в фантастическом великолепии, с терпеливой и ласковой улыбкой на губах. Рембрандт гордо и радостно смеялся. И все же ему всегда казалось, что наряд ее недостаточно роскошен! Он отступал шага на два назад, и пытливо всматривался в нее; затем открывал тяжелые дверцы резного шкафа, тщательно и придирчиво выбирал из ларца драгоценности, поглотившие значительную часть приданного Саскии, - но ведь все эти сокровища предназначались только для нее! Он отбирал сверкающие каменья, чтобы украсить ее. Иногда это были рубины - застывшие крупные капли темно-красного густого вина, или же молочно-белые опалы с перламутровым отливом, а иной раз он извлекал из ларца тяжелые золотистые топазы или блестящие кораллы с гранями самой разнообразной формы. Он перебирал тяжелые кованые золотые цепи и не раз царапал пальцы об острия серебряных булавок. Украсив ее белую круглую шею ожерельями, он обвивал широкой цепью золотые душистые волосы Саскии, так что ее головка, еще более прелестная, чем всегда, начинала клониться под тяжестью сверкающего груза. Тогда он подносил ей зеркало, и оба они, молодые и шаловливые, дружно смеялись над чудесными превращениями, которые он придумывал для нее. И вот она перед ним, его юная, цветущая подруга, - всякий раз в ином роскошном наряде. И всякий раз он торопливыми штрихами набрасывал рисунок, дрожа от нетерпения запечатлеть поскорее игру красок. Портреты Саскии не отличаются полным внешним сходством. Рембрандт может слегка изменить черты лица, сделать русые волосы Саскии светлее или темнее; светлее - бессознательно, из желания изобразить ее еще более красивой; темнее - намеренно, в соответствии с колористической гаммой картины. Свидетельством того, насколько виртуозно художник пользуется целой системой живописных и композиционных приемов и средств образной характеристики, служит поясной портрет смеющейся Саскии в Дрезденской галерее (его высота пятьдесят три, ширина сорок пять сантиметров). На этот раз Рембрандт не пытается создать поэтический образ сказочной принцессы, а хочет как можно полнее передать живое обаяние любимой женщины. Саския не соответствует академическому типу красоты, для которого характерно совершенство пропорций, мягкая женственность форм, красота общего контура, плавные, округлые его линии, тонко очерченные, нежные лица с выразительными взглядами, "влажными" и "блестящими". Но цвет лица у Саскии свежий, прозрачная тень на лбу от широкой тускло-красной шляпы и яркое освещение нижней части лица, их светотеневые градации, переходы, различно окрашенные блики создают впечатление вибрирующей, светлой, сияющей, даже горячей среды - Саския стоит под солнечными лучами. Кокетливо склонив влево грациозную головку, полуобернувшись к зрителю, прищурив от солнца свои небольшие зеленоватые очаровательные, сверкающие глаза, она сейчас засмеется. Чуть морщится и вздрагивает толстенький носик, и легкая, насмешливо дразнящая улыбка открывает ряд белых, блестящих, не очень ровных зубов. И в самом настроении, и в облике Саскии, и в том, как воспринимает ее Рембрандт, есть подлинная праздничность. Теплый свет играет на лице и открытой шее. Розовеют освещенные щеки, поблескивает и переливается молочно-матовое жемчужное ожерелье, в прозрачной тени под шляпой мерцает левая сережка. Даже затененный зеленый фон, воздушный, глубокий, напоен теплом и дыханием светотени, даже фон не отмечает светлой и беспечной, юной радости Саскии. То непосредственное настроение минуты, которое Рембрандт настойчиво искал и так и не нашел в своих прежних картинах, он просто, легко передает в этом портрете. Мимолетная улыбка любимой полна для него большой поэзии, большого человеческого смысла. Единство конкретного мгновения и непрерывного движения, в которое оно входит, преходящего настроения и длительной характеристики, одной из сторон которой оно является, - это единство рождается на основе блестящего мастерства Рембрандта-живописца. Он пишет тонкой, мягкой кисточкой, и небольшая картина производит впечатление тщательно выписанной. Однако в действительности техника Рембрандта построена на иллюзии, которая достигается благодаря исключительно свободному владению приемами линейной перспективы, анатомии, светотени и трехслойной живописи. Своей кистью Рембрандт рисует, лепит формы лица и придает им подвижность. На лице по основному полупрозрачному, уже покрытому лессировками слою, положено несколько открытых мазков - это блики на шее, у глаза, на подбородке, на кончике носа. Белый тонкий шарф вокруг стройной шеи Саскии и ее голубоватое платье, отделанное такими же шнурами, написаны очень широко. Цветовая гамма построена на сложных, местами не совсем определенных переходных тонах (например, зеленоватые переходы на светло-голубом платье). В последующие годы, 1634-1635-ый, наряду с большими портретами Саскии из Вашингтона и из Уодсворт-Атенеума (штат Коннектикут в США) появляются величественные ее поколенные изображения в фантастических костюмах. Эти картины находятся ныне у нас в Эрмитаже, в Лондонской национальной галерее и в собрании Ротшильда в Париже. Первый из этих портретов - поколенный эрмитажный портрет Саскии в виде Флоры, античной богини весны и цветов, 1634-ый год (высота картины сто двадцать пять, ширина сто один сантиметр). Женское обаяние составляет суть этого знаменитого произведения. Внешность Саскии здесь та же, которую мы знаем по предыдущим портретам. Лицо ее безмятежно, с легкой затаенной улыбкой, с прозрачным, ласковым и внимательным взглядом, направленным немного ниже и левее зрителя. Замысел берлинского рисунка и поза дрезденского портрета как бы объединились в картине Эрмитажа. Увенчанная цветами, Саския-Флора выступает за изобразительной поверхностью справа налево на фоне таинственной тьмы. В поколенном портрете Флоры Рембрандт дает поэтический портрет своей молодой жены, стремясь выразить всю силу своего чувства в наивном и трогательном стремлении как можно лучше украсить ее изображение. Широкий силуэт ее фигуры кажется изящным, он свободно размещается на картине, оставляя много места справа и особенно слева; освещенный куст зелени в правом углу и увитый яркими цветами жезл в левой части картины не заполняют пространства, а лишь подчеркивают глубину. Пышная, златотканая одежда, в которой тонет тоненькая фигурка Саскии, увитый цветами жезл, который она держит в правой руке, и цветочный венец в распущенных волосах делают ее похожей на какую-то сказочную принцессу, в образе которой художник запечатлел не столько портрет самой Саскии, сколько портрет своей любви. Придерживая на груди левой рукой зеленый шелковый плащ, Саския, слегка наклонив головку, повернула к нам свое простое, но прекрасное лицо и замерла на месте, стоя к зрителю немного боком. Полное личико Саскии, ее круглые глазки и пухлые губки мы без труда узнаем: Рембрандт их так любил и так охотно передавал именно такими, какими видел. Но одного сходства мало! Портрет Саскии должен ласкать и радовать глаз, он должен быть праздником для созерцающего. И, зачарованный красотой своей двадцатидвухлетней жены, художник самозабвенно окаймляет ее лицо локонами распущенных волос, подчеркивая женственную прелесть ее облика ее красочным окружением. Головку Саскии венчает цветочная гирлянда, гармонирующая с нежным румянцем щек. Как будто бы только что сорванные, свежие и яркие цветы венка и жезла вносят радостную ноту в общий холодноватый колорит картины. И наш взгляд скользит по богатейшим переливам светло-зеленого атласа и пестрой отделки ее длинного пышного одеяния, по серебряному шитью, украшающему рукав, и снова поднимаясь вверх, встречает богатые формы тюльпанов в венке. Написано это безо всякой мелочности, которой было еще так много в ранних портретах Рембрандта, например, в "Портрете отца"; смело и свободно ложатся в разных направлениях мазки густой краски. Костюм Саскии фантастичен, но все, что мы видим, несомненно, не выдумано, а написано с натуры: Рембрандт начал собирать обширную коллекцию восточных тканей, оружия, всевозможных предметов искусства, в том числе прикладного, которой он пользовался для изображения деталей в своих картинах. И конечно, как истинный голландец, он со вкусом передавал массивность тяжелых тканей, сверкание серебряных нитей, нежность тюльпанов. Замечательной красоты достигает живопись так называемых карнаций, как в прежние времена называли технику изображения человеческой кожи. И также красивые, яркие, крупные цветы, и также изумительно выписан плотный шелк плаща и прозрачная, полосатая, светло-коричневая ткань рукавов. Рембрандт передает материальную, осязаемую красоту мира с такой полнотой, силой и тонкостью, какие неведомы даже профессиональным голландским мастерам натюрморта - стоит только сравнить розы и тюльпаны, украшающие рембрандтовскую "Флору" с цветами знаменитого натюрмортиста Кальфа, чтобы отдать предпочтение реализму и краскам молодого сына лейденского мельника. "Флора" великолепнее, чем все попытки современников Рембрандта в этом роде - но в глазах современников картина не выпадала из рамок определенного типа. Еще через год, сохранив общий замысел и позу фигуры, Рембрандт создает новый вариант "Флоры" (высота сто двадцать четыре, ширина девяносто восемь сантиметров); этот вариант находится ныне в Лондоне. Теперь фигура Саскии уже полностью повернулась к зрителю и подчинила себе окружающее пространство. Нарочитый, но замечательно красивый эффект создается чередованием света и тени. Царственно протянутая к нам правая рука оказывается в темной, но прозрачной тени; на ярко освещенный, зеленоватый шелк юбки падает четкая, как бы колышущаяся тень от цветов, которые она держит в левой руке. Юбка написана перемежающимися пятнами серого, зеленого, голубого, желтоватого. По контрасту с неопределенными переливами шелка особенно яркими кажутся цветы в руке Саскии, ее белая рубашка и корсаж, то есть жесткий пояс юбки, шитый золотом и голубым. Задорное, подвижное, слегка асимметричное лицо Саскии полно торжествующей радости жизни. Принято считать, что в эти годы внутренняя, духовная жизнь модели не вызывала глубокого интереса художника. Действительно, Рембрандт не сосредоточивает на ней все свое внимание. Он с удовольствием углубляется в детали костюма и аксессуаров, то есть добавочных принадлежностей или украшений; и костюм, и украшения написаны, может быть, даже более внимательно и, уж во всяком случае, более старательно, чем лицо. Но достаточно сопоставить ленинградский и лондонский варианты "Флоры", чтобы увидеть, как тонко отмечает художник и внутреннюю структуру образа. "Флора" из Эрмитажа - юная Саския, еще почти девочка, которая стесняется своего пышного наряда. "Флора" из Национальной галереи в Лондоне старше ее всего на год, однако это уже сознающая свою силу молодая женщина, которая легко и свободно исполняет роль богини. Эти превращения мог отметить только Рембрандт, будущий гениальный мастер психологического раскрытия образа человека. Не раз изображает Рембрандт свою жену, подавая ее то неприступной аристократкой, одетой в меха и бархат, то шаловливой кокеткой, приветливо улыбающейся из-под тени нарядной шляпы с пером. Свою жену Рембрандт-живописец не портретирует так, как любую заказчицу. Скучная одежда голландской женщины - не для нее. Она жена великого художника и должна быть изображена так, как это угодно его капризу. Рембрандт наряжает Саскию в парчовые ткани и покрытые узором корсажи, придумывает ей широкие шляпы с перьями, покрывает ее сверкающим плащом, увешивает ее шею ожерельями, а руки - звенящими браслетами. Он пишет ее в виде древнеримской богини войны Беллоны, в ореоле пушистых волос, разметанных по плечам, в блеске лат, оттеняющих нежную белизну кожи. Он дает сцену ее туалета, ее позу перед зеркалом и себя самого, прислуживающего ей. Автопортреты, относящиеся к этому времени, изображают внешность Рембрандта соответственно его положению имеющего успех прославленного художника. Он уже не плебей с неказистым лицом, как на ранних офортах, и не пытливый мыслящий юноша, как на первых живописных изображениях - он кавалер в шляпе, с пером и при шпаге. Волнообразно загнутый берет с вьющимися перьями, повороты головы и туловища находятся в соответствии как с настроениями художника в эти годы, так и со стремлением к динамической линии, к прерывистому и разорванному контуру. Он изображает себя то принцем, то королем, то воином; он кажется самому себе то историческим, то легендарным героем; он восхищается своей оригинальностью и необычностью; он чувствует себя красивым, в расцвете лет и силы, и во всем стремится удовлетворить своим вкусам. Таковы автопортреты, находящиеся в музеях Гааги, Флоренции, Касселя, Брауншвейга и Лондона. Но нельзя не видеть и другого - внутренней неудовлетворенности мастера окружавшей его жизнью, глубокого несоответствия между его идеалами и мировосприятием и ограниченностью, узостью интересов того общества, которое в этот период поднимало на щит его искусство. Несоответствие, которое должно было привести к противоречиям в творчестве художника. С большой наглядностью о них свидетельствуют первые же живописные автопортреты, написанные в Амстердаме. Один из них, погрудный, в собрании Ротермира в Лондоне задуман в прозаическом буржуазном духе, в опрятной одежде с крахмальным воротником и широкополой шляпой. С изящными закрученными вверх усиками и с наивным, словно изумленным своей собственной добропорядочностью взглядом молодого бюргера. Другой в Пти Палеер, в Париже, изображает чудесным образом преобразившегося Рембрандта во весь рост, в пышной, фантастической одежде, восточном тюрбане с торчащим вверх птичьим пером, с густыми распущенными волосами, ниспадающими за плечи в торжественной высокомерной позе восточного владыки, царственно опирающегося левой рукой на высокий тонкий царский жезл, с лохматым пуделем на первом плане у своих ног. Уже самое существование этих двух почти одновременно написанных автопортретов говорит о внутренних противоречиях художника, о своеобразной раздвоенности его мировосприятия, о его восхищении великолепием амстердамского патрицианского быта и вместе с тем об ироническом, иногда почти гротескном вызове этому быту. Подобно бунтарям-романтикам девятнадцатого века, Делакруа, Байрону или Лермонтову, увлекавшимся Востоком как красивой, необычной жизнью, куда они спасались от недовольства окружающим, Рембрандт обращался к восточному миру, потому что он вносил частицу чудес тысячи и одной ночи в серую монотонность голландских будней. Его мастерство, его краски, дивное освещение, которое он создал и которым он одарил искусство, предназначили его к этой миссии. Он не был исключительно религиозным живописцем, ни творцом фантастических драм и живописных снов, ни символистом. Под его кистью чудо кажется совершившимся - так много он вкладывал в него глубоких, чисто человеческих чувств. Он не оставляет места сомнению в том, что он изображал. Мир, созданный его воображением, так натурален, что мы верим в него так же легко, как в существование красивой дамы на какой-нибудь картине его соотечественника - Метсю или Терборха - сидящей за столом и подносящей к устам сочный плод, который она только что взяла с серебряной или раззолоченной тарелки. Обратившись, таким образом, к живописи сверхъестественного, он находит удовольствие в изображении тех, кто внушал ему любовь к ней: на его картинах мы видим раввинов с длинными бородами и изогнутыми носами, с глубоким взором и внушительными манерами священнослужителей. Чтобы сделать их еще величественнее и торжественнее, он наряжает их в богатые плащи, темно-красные шубы и тюрбаны с тонкими, хрупкими султанами - украшениями в виде пучка перьев, в которых иногда сияют драгоценные камни. До этого времени художник только укреплял свое мастерство, и его легко понимали: он был, прежде всего, художником-портретистом. Но вскоре он становится духовидцем. Он сводит знакомство с амстердамскими эмигрантами из стран Востока. Его видят у старых раввинов, которые, объясняя ему Библию, утверждают достоверность необычайного и сверхъестественного, дают текстам Священного писания необычное, как бы озаряющее толкование и вызывают к жизни скрытые мечты, которые он носил в себе. Рембрандт становится художником чудесного. Вслед за тем манера Рембрандта становится смелее, рисунок - свободнее. Его радуют пышные, богатые краски, его мазок становится глубоким и сочным. Он целиком отдается жизни. Он прислушивается только к себе и начинает понимать себя. Он быстро достигает этого. То немногое, чем Рембрандт обязан другим, он так глубоко претворяет, что оно становится его собственным. С этого времени он становится тем гением, который раскрывает только свою собственную эволюцию, то есть настоящим, великим Рембрандтом, к которому относится все сказанное в начале нашего повествования, и которое полнее охарактеризует конец его. Здесь начинается его торжественное шествие к вершинам вечной славы. В ряде мелких картин, так называемых "философах", около 1633-го года, парижский Лувр, Рембрандт снова, как и в написанном за три года до того "Апостоле Павле", затрагивает тему, которая впоследствии стала у него одной из главных. Он снова пишет одинокого мудреца, погруженного в размышления, но теперь Рембрандт успешно справляется с поистине грандиозными творческими задачами. Вот одна из этих картин: ее длина тридцать три, высота двадцать девять сантиметров - но, несмотря на эти мизерные для живописной картины размеры, она кажется монументальной. В нескольких десятках метров от нас в полутемном помещении, справа от светлого окна, сидит, лицом к нам, седобородый старик в тускло-красном длинном одеянии и ярко-красной круглой шапочке. В руках он держит небольшую полураскрытую книгу. Во всем его облике нет ничего ни преднамеренного, ни иносказательного. С трудом различая предметы - справа от нас высокую винтовую лестницу, ведущую на второй этаж; квадратные каменные плиты пола на первом плане; очаг на полу, в нижнем правом углу, разжигаемый нагнувшейся старой служанкой, - с усилием как бы раздвигая напирающую отовсюду тьму, зритель чувствует себя участником воссоздания художником этого средневекового интерьера. Небесный свет, струящийся из окна и служащий истинной пищей философа, символически сопоставлен с источником земного, утилитарного света - с огнем очага, зажженным для подкрепления плоти. При этом площадь, занимаемая ярко освещенным окном слева наверху, явно доминирует над слабой вспышкой очага внизу справа. Противопоставление духа и плоти получает здесь также и пространственную выраженность, но Рембрандт не удовлетворяется и этим. Центральную вертикаль композиции занимает винтовая лестница, ведущая на второй этаж; Рембрандт придал ей сложную спиралевидную форму. Она похожа на гигантскую латинскую букву "S", которая наверху прикасается к краю изображения. Такая форма лестницы позволяет нам видеть ее ступени то сверху (в нижней половине буквы), то снизу (в верхней ее половине). Таким образом, лестница представляется нам скрученной в форме латинской буквы "S" гармошкой. Ее ступени, ярко освещенные у пола, постепенно уходят вверх направо, в тень лестничного проема, поглощаются мраком в самом центре изображения (середина буквы), но затем, совершив спиральный подъем влево и вверх, вновь выходят на свет, освещенные уже снизу. В этом прохождении ступеней сквозь свет и мрак зритель невольно усматривает символическое подобие хода мыслей философа. Так Рембрандт вплетает спираль - символ познания - в естественную систему вещей, и натурализирует его, превращая в обыденную вещь - винтовую лестницу. Но зритель, скользя взглядом по лестнице снизу вверх, проходя через участок перегиба, словно насыщается мыслью и восходит к скрытому до того умозрению. Однако он и тогда не покидает пределов обыденного, распознавая новый смысл в этом обыденном. Становятся понятными слова, приписываемые Рембрандту: "И на самых ничтожных вещах можно научиться осуществлять основные правила, которые окажутся пригодными для самого возвышенного". Так простой жанровый мотив приобретает у Рембрандта наводящую на раздумья значительность; с вещей словно спадает пелена, в них раскрывается глубокий внутренний смысл. "Философы" Луврского музея указывают на умственные интересы Рембрандта. Легенда о докторе-чернокнижнике Фаусте должна была бесконечно его привлекать. Ему нравилось отождествлять с ним себя. Он был, как и Фауст, пленником мечты, и жадно стремился к неизвестному. Это не значит, конечно, что Рембрандт любил корпеть над колбами и у науки искать ключей от замкнутого рая. Его библиотека была бедна. Быть может, он удовлетворялся тем, что перелистывал Ветхий или Новый Завет. Таким образом, его привлекала и воспламеняла единственно та любовь, которую питали гении сокровенных наук к необычайному. Он по-своему продолжал их дело, и его искусство было близко их науке. В московском музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина хранится небольшая по размерам (пятьдесят на пятьдесят сантиметров), но значительная по замыслу картина 1634-го года "Неверие апостола Фомы", выполненная не на холсте, а на квадратной деревянной доске. Так через три года после "Симеона во храме" Рембрандт вновь изображает группу одухотворенных происходящим на их глазам событием. Но если в "Симеоне" он, удалив в глубину людскую группу, противопоставил ее богато детализированному и гигантскому окружающему пространству внутри храма, то в "Неверии Фомы" он, резко снизив уровень освещенности, приближает действующих лиц настолько близко к зрителю, что они, частично загораживая друг друга, занимают, в то же время, почти все видимое внутри рамы картины неглубокое пространство. Оно со всех сторон окружает их непроницаемой коричнево-бурой мглой, и мы видим лишь освещенные слабым таинственным светом эти двенадцать фигур, облаченных в длинные до пола одеяния, окруживших стоящего дальше всех от нас и всех выше на верхней из трех ступеней возвышения, босого, обращенного к нам лицом, раскрывающего белую одежду на груди, Христа. Именно его фигура посылает в окружающее пространство то самое загадочное желто-зеленое таинственное освещение, делающее еще более выразительными показанные в профиль и в трехчетвертные повороты изумленные и испуганные лица пожилых апостолов. Бесстрастно он раздвинул левой рукой ткань на груди и указывает правой рукой на след смертельного удара копьем в сердце. Обратив лицо к стоящему правее от нас Фоме, произнес: "Подай перст свой сюда и потрогай раны мои, протяни руку и вложи в мои ребра; и не будь неверующим, но будь верующим!" По евангельскому преданию апостола Фомы не было с другими учениками, когда к ним в дом с запертыми дверьми внезапно явился воскресший Христос. Простой и наивный Фома не мог поверить чудесным рассказам и заявил: "Нет, если сам не увижу на руках учителя ран от гвоздей и не дотронусь до этих ран, ни за что не поверю". А теперь мы застаем апостола внутри того же дома в тот момент, когда они снова, уже вместе с Фомой неверующим, заперев изнутри все двери и окна, остались в таинственной мгле. Люди застыли в разнообразных позах, еще не лишенных театральности, но окрашенных внутренним беспокойством, любопытством, недоверием, удивлением, ужасом. Апостолы привстают на цыпочки, нагибаются, вытягивают или втягивают шеи, раскрывают рты, таращат глаза, опускаются на колени. А в глухом полумраке у левого верхнего угла картины угадываются еще три физиономии испуганных людей, не смеющих приблизиться. Разительным контрастом к этим выразительным, но как бы еще не вполне одушевленным фигурам слева от Христа и находящегося справа от него Фомы, оказывается коленопреклоненный апостол справа на втором плане. В его повернутом к нам измученном лице читается полная безысходность. И перед тем, как распластаться на полу в молитвенном исступлении, он в последний раз всплескивает сложенными руками. Снизу он загорожен фигурой окончательно пораженного чудом самого близкого к нам ученика на первом плане, который, потеряв сознание, пал на колени перед деревянной скамьей. Именно в этом месте несколько театральная, отдающая ластмановской мелодрамой сцена на наших глазах перерастает в подлинную, человеческую трагедию осознания своего ничтожества перед всемогуществом божества. В ужасе высокий, бородатый Фома отшатывается и, переступая босыми ногами с одной ступени на другую, восклицает: "Господь мой и Бог мой!" Его словно ломающаяся пополам фигура в зелено-голубой одежде, охваченная резким движением, контрастирует со светлым, неподвижным силуэтом обращенного к нам спокойным лицом Христа, с плавными движениями рук воскресшего учителя. Фома, весь охваченный смятением и ужасом, не может оторвать глаз от Христа, который, перед тем как исчезнуть, еще раз обращается к Фоме: "Ты поверил потому, что увидел меня; но блаженны те, которые не видели - и уверовали". Колорит картины, как и в "Симеоне", еще не обладает той удивительной мягкостью, которая станет свойственной более поздним картинам. Краски, лица и одежда апостолов - желтые, белые, красновато-коричневые, даже зелено-голубоватые - несколько пестры, а фон очень тяжел и полностью непрозрачен. Собственно говоря, исходящий от Христа свет не доходит до стен комнаты, но этот странный свет таким же непонятным образом освещает апостолов. Ближайшие к нему, в том числе Фома, видны достаточно четко, в то время как более дальние от него, в том числе и самые близкие к нам, оказываются в значительной степени затененными. Внутри обтекающих их контуров почти нет тональных переходов. Странно и то, что вопреки затененности силуэтов, лица их ярко светятся отражением этого магического света. Все это не только способствует объемной моделировке каждого из неповторимых, индивидуальных лиц, но и привносит элемент чудесного в саму светотеневую трактовку картины, а не только в ее сюжет. Отвергая надуманную, фальшивую героику итальянских академистов, которые полагали прогресс современного искусства не в живой связи с жизнью, а в наибольшем приближении его к идеалам и формам прошлых эпох, Рембрандт в то же время глубоко изучал произведения мастеров итальянского Возрождения. Сохранилось, в частности, три его рисунка с фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" (фреской называется важнейшая техническая разновидность монументальной живописи, применяющая известь в качестве основного связующего вещества; таким образом, фреска это роспись стен водяными красками по сырой штукатурке). Рисунки Рембрандта сделаны в 1633-ем году и ныне находятся в графических собраниях Нью-Йорка, Лондона и Дрездена. Когда в 1482-ом году в Милан приехал тридцатилетний Леонардо да Винчи, он попал в настоящий водоворот празднеств и увеселений. Красивый, одаренный, прекрасный певец и музыкант, он стал центром блестящего общества. "Все умеет, знает все, - писал о нем один из современников, - отличный стрелок из лука и арбалета, наездник, пловец, мастер фехтования на шпагах; он левша, но нежной и тонкой левой рукой сгибает железные подковы". Леонардо да Винчи был великим математиком, разработавшим теорию зрительной перспективы, и выдающимся анатомом, изучившим внутренние органы человека по вскрытым им самим человеческим трупам. Его влекло к военному делу. Он умел строить легкие мосты, придумывал новые пушки и способы разрушать крепости. Он изобретал никому до той поры неведомые взрывчатые вещества. Заветной мечтой его было создание летательного аппарата тяжелее воздуха. В его рукописях мы находим первые в мире чертежи парашюта и вертолета. В историю искусства Леонардо вошел как величайший живописец итальянского высокого Возрождения наряду с Рафаэлем и Микеланджело. Через год после прибытия в Милан Леонардо стал работать над своей гениальной картиной "Мадонна в скалах", ныне находящейся в парижском Лувре. Он воплотил в ней свое представление о прекрасном человеке и писал ее одиннадцать лет. Сразу по окончании "Мадонны в скалах" Леонардо перешел к своему величайшему творению - фреске для миланской монастырской столовой (так называемой трапезной) "Тайная вечеря". Два года, 1495-ый и 1496-ой, он работал от восхода солнца до вечерней темноты. Не выпуская из рук кисти, он писал фреску непрерывно, забывая о еде и питье. "А бывало, что пройдут два, три, четыре дня, и он не прикасается к картине", - писал современник. Помещение трапезной монастыря Мария делла Грация было большим, и фреска была задумана так, чтобы все тринадцать персонажей разместились на свободном пространстве стены длиной восемьсот восемьдесят, высотой четыреста шестьдесят сантиметров. Каждая фигура оказалась в полтора раза больше обыкновенного человеческого роста, но зрителю они видны лишь выше пояса. Напомним о легендарных событиях, предваряющих сюжет фрески Леонардо. Во вторник Страстной недели вечером Иисус Христос указал ученикам на Пасху как на время своей насильственной смерти. Сразу после этого Иуда, один из двенадцати апостолов, украдкой оставил своих собратьев и явился в Синедрион, совет старейшин и аристократов Иерусалима. Какие побуждения руководили этим человеком, сам ли Иуда потребовал плату за предложенную им кровь, или она была предложена ему, на этот вопрос нет ответа. Евангелисты говорят только, что в него вошел Сатана. Выданная за предательство плата Иуде была ничтожной, тридцать сиклей, цена негодного к работе раба. К вечеру в четверг, когда сгущавшийся сумрак мог избавить от наблюдения вездесущих доносчиков, Спаситель с двенадцатью учениками незамеченным вошел в Иерусалим. Мы видим их уже собравшимися в большой горнице, готовыми к последней вечере. Стол накрыт. Почетным местом было среднее, и оно было занято Христом. Апостолы расположились по сторонам от него четырьмя группами по трое: шесть человек слева от Христа, шесть справа. Иуда изображен повернувшимся к Христу в профиль с выражением лживой преданности и тайного страха на грубом, хищном лице; третьим слева от Христа, то есть четвертым от левого края фрески. Расположив стол, за которым сидят Христос и апостолы параллельно стене, которую украшает фреска, Леонардо как бы продолжает реальное пространство трапезной, где находится зритель. Получается, что и мы, и Христос с апостолами находимся в одном и том же гигантском помещении по разные стороны от вытянутого по горизонтали стола. Обрисовка обстановки сведена к минимуму. Длинный стол, покрытый узорчатой золотистой скатертью и скромной посудой, резко выдвинут к зрителю. За ним подразумевается большое пространство в двух-трех десятках шагов от нас, замыкаемое прямоугольником противоположной стены с тремя светлыми окнами. При этом возвышающийся над остальными апостолами Христос оказывается на фоне среднего, самого большого окна. Из верхних углов фрески к его голове стремительно опускаются линии стыка потолка с боковыми стенами. В основу композиции "Тайной вечери" положено простейшее геометрическое построение: опирающийся на нижний край фрески треугольник. Его боковые стороны - края стола и положенные на стол расставленные руки Христа. Вершина треугольника совпадает с качнувшейся в правую сторону от зрителя обнаженной головой Христа. Таким образом, Христос загораживает главную точку схода, уходящую в глубину параллели. Прямоугольная рама центрального окна в глубине превращается в своеобразную раму погрудного портрета Христа. За окном, слева от его лица, видны далекие-далекие горы, у подножия которых протекает река. Над головой Спасителя плывут облака, и космос, проникая через окна в трапезную, мягко обволакивает своими таинственными полутенями всех людей и предметы. Взоры учеников, жесты их рук направлены к Христу, и это еще больше приковывает внимание к его фигуре. Но они не видят Христа так, как видим его мы, угадывающие за ним вселенную. Это впечатление достигнуто благодаря линейной перспективе. Значение "Тайной вечери" Леонардо да Винчи в мировом искусстве определяется, во-первых, тем, что здесь впервые была полностью разрешена проблема синтеза живописи и архитектуры, сведение их в единое художественное одухотворенное целое. Во-вторых, фреска Леонардо открыла для европейской живописи совершенно новую область - область психологического конфликта. Не довольствуясь изображением этой евангельской сцены как реального события, Леонардо впервые истолковал ее как разоблачение и осуждение предательства. Перед началом вечери Христос, сознательно уподобив себя рабу, омыл ноги учеников, вытерев их своим поясом. За столом он объяснил им свой поступок как доброе и милостивое дело. "Но так должны поступать и они друг с другом, - сказал он, - они должны научиться смирению, самоотречению и любви к людям". "Блаженны те, которые поймут, что борьба за преимущества, притязательность и настойчивость на правах своего достоинства, страсть к властолюбию составляют отличительные свойства тирании и языческой незрелости; а самый великий из христиан должен быть самым смиренным, - еще раз предостерег он, - не ожидать земной награды или земных благ; его престол и царство не от мира сего". Затем речь его стала печальной. Среди его соратников находится человек, который уже навлек проклятье на свою голову. В эту ночь оставят его все, даже наиболее возлюбленные им, но это еще не все. В эту ночь даже самый мужественный из них клятвенно трижды отречется от него, но и это еще не все. Истинно говорю вам: один из вас предаст меня. За серединой стола, вдоль главной оси фрески полуфигура Христа, представляющая логический центр повествования, отделена промежутками от фигур апостолов. На Иисусе красно-оранжевая одежда раба - хитон с круглым отверстием для головы. Через левое плечо переброшен светло-синий плащ. Раздвинутые руки прочно упираются в стол, левая обращена ладонью вверх. Вещие слова сказаны. И вот по ряду учеников проходит волна, как бы состоящая из двенадцати фигур, считая то в одну, то в другую сторону от Христа: удар, круговращение, отражение, обращение, вздымание, склон, подъем, стремительность, замедление, углубление и так далее, вплоть до исчерпывания движения в крайних, замыкающих композицию фигурах. Это все термины самого Леонардо. Так подобно брошенному в воду камню, порождающему все более расходящиеся по ее поверхности круги, слова Христа, упавшие среди мертвой тишины, вызывают величайшее движение в этом собрании, до того пребывавшем в состоянии полного покоя. Особенно выразительна захватывающая зрителя контрастными характерами и чувствами составляющих ее лиц группа апостолов по правую руку от Христа, то есть слева от зрителя. Весть о предательстве словно парализовала нежного юношу с мягким сердцем, любимого ученика Христа, Иоанна. Золотистые локоны обрамляют его женственное лицо, руки лежат на столе, пальцы бездейственно сплетены. Наклонив голову влево от нас, он слушает стремительного и гневного седобородого Петра, верховного апостола, который, сжимая нож в правой руке, шепчет что-то ему на ухо. И, наконец, между Петром и столом, прижатый к столу, низкорослый, с взлохмаченными волосами, погруженный в тень, повернувшись к нам в профиль, напряженно и гипнотизирующе смотрит на Христа Иуда. Заостренность крючковатого носа, сходящегося с подбородком, выпяченная кривая нижняя губа, низкий покатый лоб - все эти Иудины черты выражают единство физического и морального уродства. Когда другие рассуждали между собой о том, кто предал, он с наглостью и презрительным ожесточением преступника оставался безмолвным. Но вот, уязвленный тем потрясающим ужасом, с которым все остальные смотрели на саму возможность предательства, он и сам дерзнул на гнусный и бесстыдный вопрос. Откинувшись влево от нас в сторону, упав локтем правой руки, сжимающей кошелек на стол, так что упала и покатилась солонка, он словно защищается от изобличения протянутой левой рукой, в то время как правая рука судорожно прижимает кошелек к груди. Так, скорчившись, боясь разоблачения, впиваясь в Христа обуреваемым неблагодарностью сверлящим взглядом, он хрипло шепчет с язвительностью дерзкой насмешки: "Не я ли, равви?" Лицо Христа как бегущая волна. Оно меняется, оно живет и дышит. Оно в становлении, в нем игра мыслей и чувства. Оно обещание последующих свершений мирового портретного искусства. Оно предвестие поздних рембрандтовских лиц. Оно печально той печалью, которая долговечнее стали и камня. "Ты сказал", - следует тихий, неукоризненный ответ, запечатлевающий виновность предателя. Как иногда в бурные ночи с диким завыванием рвется ветер через треснувшие стены какого-нибудь заброшенного места, так и в погибельной душе Иуды бушуют зависть и ненависть. "Что делаешь, делай скорее", - громко продолжит Христос. И Иуда сразу поймет, что означают эти слова. "Твой гнусный замысел созрел, исполняй его без всякого льстивого лицемерия и бесполезных отсрочек". И предатель выйдет из-за стола и покинет недоумевающее собрание. Затененный злобный профиль Иуды среди ярко освещенных лиц остальных апостолов. Буря страстей в душе предателя и его испуг позволяют Леонардо выделить Иуду среди других апостолов и сделать его роль понятной зрителю. Еще никогда европейские мастера не вкладывали в свои фрески и картины столько наблюдений над жизнью человеческой души. Главный герой драмы величественно прост и спокоен. В самом страдании Христос обретает благородство, но его образ давался Леонардо нелегко. Впоследствии передавали, что художник долго не мог закончить его голову. Зато зоркостью своей в изучении страстей и слабостей человека Леонардо как бы предвосхищает своего младшего современника - итальянского политического деятеля, историка и писателя Никколо Макиавелли, который призывал отречься от идеализации человеческой природы и исходить в политике из положения, что люди неблагодарны, изменчивы, лицемерны, трусливы перед опасностью, жадны до наживы. Рембрандт работает над целой серией произведений, эпические и легендарные темы которых окончательно удерживают его на пути тайновидца. Рембрандт посвящает эти картины сказаниям о библейских героях. Религиозный автор сообщает, что по воле Господа жена Маноя после долгих лет бесплодия родила сына и дала ему имя Самсон (по-еврейски солнце). Один раз любовь к женщине погубила Самсона. Он полюбил филистимлянку Далилу, и она, прельстившись серебром, которые ей обещали филистимские князья, вызнала от Самсона, что источник его богатырской силы - в его волосах. Усыпив Самсона "на коленях своих", она остригла его и призвала филистимлян, которые схватили его, выкололи ему глаза, сковали цепями и бросили в темницу, где он должен был вертеть жернова. В темнице его волосы отросли. Когда Самсона привели на филистимское торжество, чтобы он позабавил народ, Самсон со словами "умри, душа моя, вместе с филистимлянами", обхватил руками два опорных столба, вырвал их - и громадный дом, полный мужчин и женщин, рухнул, похоронив под своими обломками всех участников торжества. Сказание о Самсоне напоминает мифы о греческом герое Геракле. Геракл первоначально считался солнечным божеством. И столбы, вырванные библейским богатырем, напоминают Геркулесовы столбы. Сближает Самсона с Гераклом и то обстоятельство, что оба погибли из-за женщин. "Самсон, связанный филистимлянами" (1633-ий год, коллекция Шенбрунна). "Самсон, угрожающий своему тестю" (1635-ый год, Берлин), наконец, очень сильная картина "Свадьба Самсона" (1638-ой год, Дрезден) - во всех этих картинах Рембрандта содержимое легенды о библейском герое передано со сдержанным величием, без малейшей позы. Художник пишет ряд больших картин с крупными фигурами, полными драматического напряжения, патетически повествующими о конфликтах могучих стихийных сил. Он использует весь живописный арсенал парадной исторической композиции, его насыщение красочными и световыми контрастами. Любопытно, что в этот период среди библейских легенд внимание Рембрандта заостряется на теме Самсона, в которой элементы драматизма сочетаются с изображением грубой силы, тогда как в позднейшие годы его больше привлекает тема отцовской любви, одиночества и одухотворенного молчания. Быть может, самой крайней степени в своем стремлении к драматической патетике и в то же время пренебрежении к традиционным идеалам героики и к условным художественным канонам, то есть системам точных правил и предписаний, установленных академистами, Рембрандт достигает в самой большой картине самсоновского цикла - "Ослепление Самсона" (длина двести восемьдесят семь, высота двести тридцать восемь сантиметров). Это полотно было преподнесено автором своему покровителю, поэту и государственному секретарю Гюйгенсу в 1636-ом году; ныне картина находится во Франкфурте-на-Майне. Здесь изображен кульминационный момент истории Самсона - предательство Далилы, которая убегает прочь с волосами, срезанными ею с головы обманутого любовника, и ослепление филистимлянами поверженного богатыря. В этой картине есть все, что было принято в искусстве барокко для создания героической эпопеи, и в первую очередь есть бурное движение. Справа, почти касаясь изобразительной поверхности картины изнутри, крутится клубок человеческих тел, сплетенных в бешеном напряжении. В центре картины, на втором плане, художник дал драматический образ обернувшейся к нам и своей жертве ярко освещенной, видимой во весь рост, торжествующей Далилы в длинном голубом одеянии, с большими ножницами в правой и отрезанными волосами Самсона в левой руке, со смешанным выражением триумфа и ужаса на затененном лице. Никогда ни до, ни после этого Рембрандт не воссоздавал такое красивое и вместе с тем зловещее женское лицо, жуткое в своей предательской радости. Но художник не превращает картину в занимательное и парадное произведение, как это часто бывало у современных ему мастеров итальянского барокко; он подчеркивает жестокий и трагический характер событий. Композиция картины по-шекспировски динамична. Обнаженный по пояс Самсон только что упал навзничь из глубины сцены направо, головою к зрителю. Изгибаясь всем туловищем и вскидывая босые ноги, он тщетно пытается продолжать борьбу. Предавшая его и теперь убегающая Далила сейчас скроется в глубине слева, откуда на главную сценическую площадку льется голубой, лучезарный свет. А на первом плане мы видим резко пересекающиеся диагональные линии, одна из которых - топоровидное лезвие, насаженное на длинное копье - алебарда, которую уверенный филистимлянин рядом с нами, слева, стоя боком, сжимает в обеих руках. Широко расставив ноги в широких азиатских красных шароварах, привычно согнувшись - ему не впервой - он целится концом алебарды в левый глаз отчаянно сопротивляющегося Самсона. Громадная фигура филистимлянина, заслоняющая почти всю левую половину сценической площадки, выступает резким, почти черным силуэтом на фоне освещенных слева дальних планов. В это время двое других филистимлян, в сверкающих отраженным светом латах и шлемах на фоне мрачного дальнего плана справа, упали Самсону на шею и плечи. Они заламывают ему руки за спину и заковывают их в тяжелые и гулкие блестящие цепи. А еще один, навалившись богатырю на грудь, самозабвенно высверливаем ему правый глаз кинжалом. Вот они, вероломные и жестокие враги, словно выросшие из мрака, наползающего со всех сторон на ярко освещенный центр; здесь, у наших ног сейчас замрет распластанное, еще сопротивляющееся, но уже обреченное на слепоту, издевательство и гибель прекрасное тело Самсона. Контраст темных и светлых тональных пятен ошеломляет - в этом контрасте раскрывается содержание события, свет для ослепляемого человека сменяется вечной тьмой. Рембрандт как бы нарочито подчеркивает вульгарность, циничность, страшную жестокость события, лишая его малейшего ореола героизма. Грубая животная жестокость сцены ослепления еще сильнее выступает по контрасту с таинственным, манящим своей воздушной светлотой прорывом в синюю глубину, налево, куда сейчас скроется Далила, и откуда резкий свет падает на искаженное болью и бессильным гневом лицо Самсона, по контрасту со звучным великолепием колорита, построенного на трагическом сочетании синих, желтых и кирпично-красных тонов. Над проблемой использования света в картине Рембрандт работал в течение всей своей жизни. В ряде ранних работ художника, на которых мы останавливались, фигурировал ровно падающий бытовой или "будничный" свет, выявлявший объемы предметов, характер их фактуры, то есть красочного слоя поверхности - шероховатого или гладкого. Обыгрывались, как у Караваджо, рефлексы на поверхностях и контрасты света и тени для усиления внешней выразительности, объемности действенного начала. Постепенно свет превращается у Рембрандта в главное средство глубокого и всестороннего раскрытия внутреннего содержания произведения. Так, параллельно с обострением внимания к библейским легендам, Рембрандт всецело поглощен чисто живописными проблемами и, главным образом, проблемой светотени. Мы познакомились с серией картин, посвященных Ветхому Завету. Однако параллельно Рембрандт шел и другим путем. Никем, кроме Рембрандта, не могла быть написана такая картина, как "Снятие с креста", ныне находящаяся в Эрмитаже; она имеет вертикальный формат (высота сто пятьдесят восемь, ширина сто семнадцать сантиметров) и написана в 1634-ом году. Через сто восемьдесят лет после создания, в 1814-ом году, она появилась в России в составе собрания императрицы Жозефины из замка Мальмезон близ Парижа. "Снятие с креста" - один из наиболее распространенных сюжетов религиозной живописи. На протяжении веков он вдохновлял итальянских художников, к этой теме обращались и нидерландские живописцы пятнадцатого-шестнадцатого веков. Творчество этих художников было связано с традициями средневекового искусства и проникнуто духом строгого церковного учения. Однако самый выдающийся из них - Рогир ван дер Вейден (годы жизни 1399-1464-ый) -обогатил искусство Нидерландов передачей движений и особенно чувств, таких как горе, гнев или радость в соответствии с сюжетом, хотя он и воздерживался от индивидуализации образов и переноса сцены в реальную конкретную обстановку. Средневековые религиозные формы в искусстве были окончательно преодолены старшим современником Рембрандта Питером Паулем Рубенсом, который полностью отказался от замкнутости, изолированности изображаемых сцен, и стал решать свои картины как часть необъятного окружающего мира. Они захватывали зрителя своей зрелищностью, интенсивностью стиля, напряженными ритмами, красочностью. Рубенс создал на эту тему патетическую картину-зрелище. Картина Рубенса тоже находится в Эрмитаже. Задача была поставлена Рубенсу так: тяжелое тело, снятое с точки опоры, принято на руки шести участвующих лиц, которые соединены в общем акте действия вокруг своей ноши как колонны, поддерживающие крышу храма - каждый сам по себе связан с другими лишь принятием общего груза. И, как бы стоя за пределами места действия, издалека, зритель наблюдает за священнодействием снятия с креста: плавно опускающееся тело Христа и принимающие его величавые фигуры шестерых святых. Их характеристики даны законченнее, чем у Рембрандта; изображены они в ярких реалистических чертах, но в интересах наглядности Рубенс не боится известных элементов условности; несмотря на ночь (фон картины темный) локальные, то есть свойственные предметам при их естественном дневном освещении, тона одежд выступают во всей чистоте и яркости, а протянутые слабые руки молодых женщин, наверное, не смогут принять тяжесть тела мертвеца. Однако в Нидерландах, выдержавших упорную, трудную, кровавую борьбу с внешними врагами, тема Голгофы (Голгофой называлась гора, на которой по евангельскому преданию был распят Христос) решалась как тема народного горя. И Рембрандт ван Рейн, плоть от плоти и кровь от крови своего народа, писал эту картину как изображение общего, всех равняющего, глубокого горя. Его картина - подлинная и увиденная участником события, горюющим и озабоченным человеком из толпы, окружившей крест. Вместо огромного алтарного образа Рембрандт пишет среднюю по размерам картину кабинетного формата. Вместо великолепных, атлетически сложенных, гибких в своих движениях героев Рубенса - нескладные фигурки простых людей, суровых в охватившем их горе. Ночь, упомянутая в легенде, и со всей конкретностью рисующаяся воображению художника, окутывает мраком всю группу и с трудом позволяет разглядеть иные фигуры. Построенная пирамидально главная группа, ограниченная по сторонам диагоналями лестниц, имеет своим смысловым и живописным центром мертвое тело, которое неловко, с трудом поддерживает забравшийся на самый верх плотный, коротко стриженый мужчина средних лет. Юноша, взбирающийся на приставленную справа к кресту лестницу, держит в руках зажженную свечу; он защищает огонь от дующего слева ветра своей шапкой и вместе с тем заслоняет ею пламя от наших глаз. Скользящий желтый свет падает на тело Христа в центре картины; с напряжением принимает его тяжесть стоящий справа от креста седобородый старец. Если у Рубенса обнаженное мертвое тело Христа сохраняет и мощную мускулатуру, и благородные очертания, то у Рембрандта это - жалкий комочек материи, бессильно свисающий на руки старика-апостола. Тело Христа, жалобно повисшее, изогнулось, и его вид - напряженная правая рука, за которую его еще держат наверху, и висящая мертвая левая, его только что качнувшаяся окровавленная голова и складки туловища, израненные ноги - вызывает не благоговение, а щемящую тоску и человеческое сочувствие равного равному. Апостол принимает его с заметным усилием, но так бережно, так осторожно, что мы понимаем - трагедия Христа стала его личной трагедией. И подобно этому трагедия Бога стала чисто человеческой трагедией всех собравшихся здесь людей и зрителя. Справа на втором плане слабый свет рисует группу женщин. Изнемогает от горя мать Христа, Мария - она не в силах стоять, теряет сознание, падает на руки заботливо обступивших ее людей. Почти так же, как белая повязка на ее голове, бледно ее омертвевшее от страдания изможденное лицо, сомкнуты веки, бессильно поникла ослабевшая кисть тянущейся к сыну правой руки. Богоматерь одета как голландская крестьянка; в группе, что ближе к подножию креста, также виднеется голландский головной убор. Думая о страдающих людях, Рембрандт воображал их себе людьми из своего окружения, но, отдавая дань своим представлениям о Палестине, где происходит действие, он одел в богатые восточные одежды стоящего спиной к нам рослого человека с посохом в левой руке, на переднем плане. Тончайшие переливы приглушенного света играют на шитье и мехах его одежды, окаймляют его высокую светлую чалму. Это - представитель Иерусалимского судилища, который присутствует здесь по обязанности при взятии тела казненного. Вертикальная линия отставленного им посоха намечает главную ось картины. Переходя на центральную группу и акцентируя ее, свет вызывает множество оттенков. Обнаженное тело Христа и одежда поддерживающего его справа коротко остриженного мужчины почти одного цвета и одной яркости, но как индивидуализирован характер фактуры, как тонко сквозит краска в одном случае и какими плотными мазками ложится она в другом! Слева внизу на первом плане - еле освещаемые издалека свечой фигуры скорбных женщин, расстилающих плащаницу - роскошное покрывало, чтобы принять драгоценное тело Христа. Эту часть картины освещает еще один источник света - слабое мерцание, словно отклик на главный световой акцент в центре. Вдали, на горизонте, то есть вдоль линии, пересекающей картину пополам по горизонтали, в ночной мгле вырисовываются укрепления и купола города. Картина проникнута глубоким, во всей полноте пережитым чувством; оно воплощено в материально осязаемые объемные формы. Повествование ведется с оттенком будничности, и тем более реально. Душевная жизнь человека, которую уже в это время глубоко постиг молодой художник, раскрывается в этой трагической сцене сдержанно, но с большой силой. "Эта вещь доказывает, - говорит французский рембрандтовед Шарль Блан, - как много значит личное настроение художника. Для того чтобы изобразить нескольких христиан, оплакивающих у подножия креста своего учителя, можно обойтись без античной языческой красоты и все-таки произвести возвышающее впечатление. В такую картину нужно только вложить душу, а ее-то и выразил Рембрандт в освещении". Евангельская трагедия неизбежно должна была привлечь внимание Рембрандта. Обилие человечности соединяется в ней с таким количеством страданий и величия; столько красивых жестов рисуется здесь на фоне катаклизма; высшая доброта, бесконечная мягкость, слезы, нежность, отчаяние сливаются здесь в таки рыдания, что ничто не могло доставить художнику сюжета, более соответствующего его силам, чем эти страдания очеловечившегося Бога. Заказ на эту работу через посредство Гюйгенса был дан Рембрандту самим штатгальтером (верховным властителем) Голландии, принцем Оранским, в то время как обычно двор, находившийся в Гааге, прибегал к услугам фламандских (бельгийских) художников. Рембрандт задумал серию, работал над ней несколько лет и закончил ее в 1638-ом году. Он разделил тему на пять картин и, отсылая их заказчику, оценил каждую в тысячу флоринов. Он писал принцу Оранскому: "Я отдаюсь в распоряжение принца и вверяю себя его вкусу. Если его светлость найдет, что моя картина не стоит таких денег, он может дать мне меньше". Мы познакомились с петербургским, несколько измененным вариантом второй картины из этой серии; этот вариант выполнен Рембрандтом собственноручно, по-видимому, для себя. Все оригиналы хранятся в Мюнхенской пинакотеке (картинной галерее). Когда осматриваешь эти картины, прежде всего поражаешься их глубоким единством. Благоговейно идешь от одной картины к другой, как верующие в церкви идут вслед за крестом. Одна сцена следует за другой, они взаимно связаны, друг друга пополняют. Это ступени одного и того же скорбного пути. Большинство сцен, подобно "Снятию с креста", погружено в глубокий мрак; предметы выступают, словно вырванные из тьмы ярким лучом, упавшим на тело распятого или потерявшую сознание Марию. Художник, по своему обыкновению, одевает действующих лиц в самые разнообразные костюмы. Знатные господа в тюрбанах и шубах рядом с безвкусно одетыми людьми в одеждах голландского простонародья; женщины в скромных нарядах монахинь рядом со сказочными принцессами. Это пренебрежение ко всяким местным оттенкам заставляет представлять сцены происходящими где-то вдали от всякой реальности, где-то там, в стране воображения. Тот, кто ценит главным образом внешнюю красоту, найдет, пожалуй, много некрасивого и угловатого в созданиях Рембрандта; но таинственное действие света, усиливаемое далеко простирающейся тьмою и соответствующее содержанию, приковывает к себе зрителя, а гармония оттенков красок действует на душу подобно мелодиям старинных церковных песен. Драма чувствуется одинаково как в расположении и освещении всей обстановки, так и в человеческих группах, полных тоски. Для Рембрандта вещи, как и люди, умирают одновременно с теми, кто их создал. Он окружает "Распятие", "Снятие с креста", "Погребение", "Воскресение" и "Вознесение" такой атмосферой смертельной тоски или таким сиянием блаженства, что мы чувствуем себя присутствующими то при кончине нашего мира, то при рождении нового. В "Снятии с креста" и других полотнах Рембрандта на евангельские сюжеты впервые в его творчестве прозвучала мысль о том, что большие жизненные события, суровые испытания судьбы, глубокие и благородные переживания сближают людей. Картины эти свидетельствуют о зарождении новых веяний в искусстве Рембрандта - они предвосхищают глубокий драматизм его более поздних полотен. Много и успешно работает Рембрандт в 1630-ых годах в гравированном на металле рисунке, то есть офорте. Тематика его офортов очень широка. Его продолжают привлекать герои из самых низших, порой люмпен-пролетарских слоев населения. Он испытывал неприязнь к крайностям итальянского искусства, которое, по его мнению, искало только внешней красоты, оставаясь в то же время холодным и бессодержательным. Итальянские мастера любили изображать полуобнаженных прекрасных аристократок под видом богинь и героинь античных и библейских мифов. Рембрандта же гораздо больше привлекают реалистические изображения обыкновенных людей, в частности, уличных типов; человеческого убожества, даже так называемых отталкивающих мотивов. В этом отношении очень характерен жанровый офорт "Продавец крысиного яда", 1632-ой год (высота четырнадцать, ширина двенадцать сантиметров). Путешествуя вместе с художником по окраинам города, мы попадаем на какую-то загородную, может быть, деревенскую улочку, уходящую в глубину к стареньким, полуразвалившимся одноэтажным строениям. В центре офорта изображен остановившийся в нескольких шагах от нас подвыпивший бродяга неопределенного возраста, весь в каких-то вздутых мешкообразных лохмотьях, испещренных заплатами. Он стоит к нам левым боком - и к этому боку привешена кривая сабля. Уродливая голова скитальца накрыта сверху большой грязной шапкой, щетина на подбородке дергается в такт его невнятно произносимым фразам. В руке этот человек держит высокий шест, на верху которого над нами покачивается большая плетеная корзина - и с краев ее (для рекламы) свисают околевшие от яда крысы. По верхнему краю корзины ползает живая крыса; другая сидит у странника на левом плече - она предназначена к тому, чтобы доказать действие яда на деле. Слева от продавца мы видим еще более отвратительного, чем его спутник, нищего мальчишку, наглеца и вора, который, дерзко задрав обезьяноподобную голову, держит в обеих руках ящик с отравой, как бы предлагая его не только покупателю, но и зрителю. Этот мальчик представляет собой образец телесного и душевного убожества, поэтому нам вполне понятно то отвращение, которое выражает всем своим существом старичок, стоящий слева от нас, за полуоткрытой дверью в арочном проеме дома, перед которым разыгрывается эта сценка. С негодованием старичок отвергает предлагаемый бродягой яд, отстраняя его трясущейся левой рукой и поворачивается в нашу сторону, стараясь в то же время другой рукой захлопнуть дверь перед непрошеными подозрительными пришельцами. Герои офорта - отвратительные уроды, но их изображает Рембрандт, стремящийся выявить их сопряженность со всей окружающей жизнью. Они органично вписываются в пространство за изобразительной поверхностью листа, при этом они двигаются. Все это пробуждает к ним интерес, и уродливость их облика как бы смягчается; в какую-то минуту мы начинаем понимать всю горечь их нелегкого жизненного пути. А вот перед нами самый известный из офортов Рембрандта того же периода - "Воскрешение Лазаря", 1631-1632-ой годы (его высота тридцать шесть, ширина двадцать пять сантиметров). Верхняя часть гравюры закруглена, ее края образуют как бы арочный проем окна, через которое мы с изумлением и невольным страхом наблюдаем действие. Своей безрассудной и как бы гремящей яркостью, которая разгоняет прочь все тени, этот офорт прямо-таки невыносим для чувства. Рембрандт переносит нас в какую-то фантастическую подземную пещеру. Изобразительная поверхность гравюры, как тонкая прозрачная пленка, перегораживает дорогу к высокому выходу в нескольких метрах от нас, в глубине справа. Этот выход задрапирован тяжелыми материями. Сверху стена пещеры убрана оружием покойного - святого Лазаря, друга Христа. Внизу, перед выходом, на гравюре справа - раскрытая могила, каменный гроб. Занавеси высоко подняты, и в гроб льется солнечный свет, ярко освещая возлежащего по горизонтали, головой влево от зрителя, мертвеца. Мы чувствуем, как плечи его и шея как бы наполняются энергией; тихо, еще в глубоком сне возвращается он к жизни. Земля как бы поднимает гробницу против воли своей в каком-то катаклизме, потрясающем и побеждающем ее; мы явственно видим, как захороненный поднимает голову, охваченную белой перевязью на лбу. Судорожная гримаса пробегает по его оживающему лицу - и всеми этими превращениями управляет стоящий на опрокинутой к нам каменной могильной плите, слева от Лазаря, в центре изображения, спиной к нам, Христос. Этот босой великан в длинной, ниспадающей серой одежде, с курчавыми черными волосами, импозантно выпрямившись, уперев правую (близкую к нам) руку в бок и вытянув левую вверх, спокойно, лицом к лицу со смертью, повелевает исконным таинственным силам природы. Волнообразные складки на его одежде очень круты, почти осязаемы; по ним проходит резкая граница тени (слева) и света (справа). Все определенно и твердо; Христос похож на статую, отлитую из бронзы. Его фигура кажется монументальной в том смысле, что ее отлили в форме металлического монумента, и она так и застыла; ясно, что этот Христос, находящийся в непонятном равновесии, создан из мертвого материала. Шлейф его плаща прибавляет к двум опорам - босым ногам - еще и третью. Кажется, что склеп, где происходит чудо, открылся с ужасным треском - и действительно, беззвучный магический жест неподвижной - и в то же время ужасно медленно поднимающейся - левой руки Христа раздается, как удар литавр, резонансом в пещере. Поразителен и действен рембрандтовский схематизм. Контур торжественной фигуры Христа, немного сдвинутый влево от вертикальной оси офорта, как бы повторяет очертание арочной формы изображения в целом. Освещенная гробница Лазаря справа и затененная каменная плита слева организуют сценическую площадку. В углах этой площадки находятся вылепленные во весь рост немногочисленные свидетели чуда. Все они обращены к оживающему мертвецу, и среди них господствует ужас. Он находит выражение как в позах и мимике лиц, так и особенно в жестах рук. Среди тех, что толпятся в глубине, у выхода справа, сразу бросается в глаза ярко освещенный высокий и плотный человек в рабочей одежде и поварском колпаке, широко и нелепо раскинувший руки с растопыренными пальцами, который сейчас упадет навзничь, вглубь пространства офорта. Другая странная фигура - одна из сестер воскресшего, ближе остальных к нам, изображенная силуэтом в нижнем правом углу, на первом плане - она подгибает колени, как бы приседая к ногам оживающего брата, и в то же время не простирает к нему руки, но в страхе отводит их прочь. Другая сестра, между мужчиной в колпаке и гробницей, бросается к покойнику с распростертыми объятиями. Между тем Христос, возвышающийся над остальными действующими лицами, слегка склонив голову вправо, преисполнен такой уверенности в своем могуществе, что его жест, сокрушающий закон смерти, кажется в то же время бесконечно для него легким и беспредельно простым. Неожиданные глубокие, черные тени, не только окаймляющие лист, но и прорезающие его сверху вниз и сбегающие по спине Христа, завершают в этой сверхъестественной сцене ее таинственность и величие. К тому же 1633-му году относится изумительный офорт Рембрандта "Добрый самаритянин" (высота двадцать пять, ширина двадцать один сантиметр). Богатый самаритянин, житель города Самарии, привез больного окровавленного бедняка, которого он подобрал на дороге, в гостиницу - с тем, чтобы там о нем позаботились и вылечили. Ранний Рембрандт, придающий большое значение занимательности сюжета, чисто внешнему драматизму и техническому совершенству, идет на мелодраматические отклонения от традиционного сюжета, включает в повествование новых действующих лиц. Через пятнадцать лет, на высшем этапе творчества, Рембрандт вернется к легенде о добром самаритянине и даст ей более близкую к оригиналу и в то же время более человечную трактовку в картине под тем же названием. В соответствующем месте мы подвергнем эту картину более детальному разбору, а сейчас дадим слово великому немецкому поэту Иоганну Вольфгангу Гете, который посвятил замечательному раннему рембрандтовскому офорту свою статью "Рембрандт-мыслитель": "На переднем крае гравюры "Добрый самаритянин" изображена лошадь, стоящая к зрителю почти боком; и паж держит ее за узду. За лошадью изображен слуга, снимающий раненого и собирающийся внести его в дом, в который ведет лестница, проходящая через балкон. В дверях виден пышно одетый самаритянин, дающий хозяину дома деньги и бережно вручающий раненого его заботам. Левее виден выглядывающий из окна молодой мужчина в шляпе с пером. Справа на незаполненном пространстве фона виден колодец, из которого женщина черпает воду. Этот лист - одно из прекраснейших произведений Рембрандта; он производит впечатление гравированного с необычайной тщательностью, но, несмотря на тщательность, игла очень легка. Внимание превосходнейшего Лонги особенно привлек старик в дверях, относительно которого он говорит: "Не могу обойти молчанием лист "Самаритянина", в котором Рембрандт настолько верно передал вечно трясущегося за свое существование человека, как не смог передать этого еще ни один художник ни до, ни после него". Но продолжим наши замечания об этом прекраснейшем листе. Нас удивляет, что раненый, вместо того, чтобы отдаться в распоряжение прислуги, которая собирается внести его в дом, с трудом поворачивается. Приподняв голову, он обращается в левую сторону, как бы сложенными руками умоляя о милости того молодого мужчину в шляпе с пером, который скорее холодно и безучастно, чем грозно, выглядывает из окна. Эта поза особенно неудобна для несущего его слуги; можно прочитать на его физиономии, что груз ему неприятен. Становится ясным, что раненый узнает в грозном юноше в окне капитана бандитов той самой шайки, которая недавно обобрала его. Раненого охватывает ужас от сознания, что его несут в притон бандитов, и что самаритянин также решил погубить его. К тому же он находится в состоянии безнадежной слабости и беспомощности. Если мы теперь посмотрим на лица всех шести изображенных фигур, то окажется, что нам вовсе не видна физиономия самаритянина; паж, держащий лошадь, виден лишь слегка в профиль. У слуги, утомленного грузом, напряженное, недовольное лицо с поджатыми губами. Бедный раненый - полнейшее выражение беспомощности. Чрезвычайно удачно контрастирует добродушное и внушающее доверие лицо старика со скрытным и жестким лицом капитана бандитов!" Офорты середины тридцатых годов отличаются сугубо внешней драматизацией и подчеркнуто зрелищной композицией. Пожалуй, наиболее характерен из них лист "Благовестие пастухам" (высота двадцать шесть, ширина двадцать два сантиметра), изображающий явление ангела с известием о рождении Христа. Здесь большую роль играет пейзаж. Рембрандт разрабатывает этот жанр как изображение одухотворенной природы. Рембрандт показал, какой огромной силой эмоционального воздействия обладает пейзажный жанр, насколько он способен развить у зрителя чувство красоты окружающей действительности, восприимчивость к миру прекрасного. Пейзаж "Благовестие пастухам" внешне сотворен в неразрывной связи с евангельской легендой. Основой композиционного приема офорта является резкое и очевидное противопоставление света, прямо-таки бьющего нам в лицо из глубины пространства слева вверху, и тьмы, словно откатывающейся направо и вниз. Впрочем, темные тональные пятна изобилуют и в верхнем правом, и в нижнем левом углах офорта, что камуфлирует главный светотеневой замысел художника. Так строится пространственная панорама, замкнутая справа и уходящая далеко в глубину слева, богатая промежуточными тонами и всегда производящая впечатление цветной. Ночь опустилась там, за изобразительной поверхностью офорта, где могучий и прекрасный лес загородил линию горизонта, кусочек которой угадывается слева, она опущена. Низкий горизонт помогает подчеркнуть монументальность пейзажа, его величие. Деревья и кусты достигают справа до верха изображения; они соединены в подобие единого гигантского букета из корявых стволов, раскидистых ветвей и богатой и пышной листвы. Несколько пастухов, не ведая про свершившееся чудо, мирно спали на расположенной между нами и лесом опушке, вблизи своих стад, на первом плане, окруженные высокими кряжистыми деревьями. Вдруг из густого, нависшего над темной землей облака, медленно опустившегося откуда-то сверху в левую верхнюю часть видимого нами пространственного участка, яростно вырвались из одной его точки во все стороны снопы слепящего света, образовав расходящиеся радиусы пылающего диска. Внутри него зарезвились и закувыркались веселые голенькие крылатые младенцы-ангелочки, фигурки которых оказались все пронизанными тем же мистическим светом. Облако опустилось ниже, и вместе с ним опустилась его нижняя кромка, на которой, как на ковре под ногами, замер гигантский ангел в широких белых одеждах, словно ниспадающих ослепительным, но спокойным потоком. Внизу под облаком засветилась река и противоположный берег, а ангел, простирая над ними свои белые крылья, вскинул правую руку к небесам, протянув левую вниз, к внезапно проснувшимся и вскочившим людям, как бы торжественно и в то же время непреклонно успокаивая их: "Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость". Его появление вызвало панический страх, а весть о рождении Христа привела в смятение не только людей, но и животных, и всю природу. Вся опушка осветилась - и с мычанием и блеянием, в диком галопе, разбежался скот. Пастухи, раскинув руки и побросав посохи, побежали в разные стороны, со всех ног, перепрыгивая через овец и друг друга или застывая в позах ужаса. Некоторые упали навзничь, а деревья справа, в глубине, дико зашумели, размахивая вершинами, покрытыми густой и тяжелой листвой. Так, стремясь найти соответствие тому потрясающему психическому волнению, которое, по его мысли, овладело живыми существами и сообщилось чуть ли не всей природе, Рембрандт всячески преувеличивает элементы движения. Но для нас важно другое. Здесь Рембрандт разрешает сложнейшую задачу светотеневой организации листа, распределения на нем света и теней, направления и ширины черных штриховых линий и белых фрагментов между ними. Впервые в графическом искусстве Рембрандт решается на неслыханный прием. Он освещает передние планы со стороны дальних - главный световой поток несется из глубины, словно струясь от ослепительного диска наверху слева, на недалекую от нас опушку - своего рода предметную площадку, расположенную внизу в центре и справа. Свет невидим, но зато видны все предметы и фигуры, попавшиеся ему на пути. Каждый из этих предметов ограничен кривыми или плоскими поверхностями и, кроме того, находится в разных условиях освещенности: падая на различные поверхности, лучи света осветляют их неравномерно. Одни получают больше света, другие меньше, одни получают его под одним углом, другие под другим, одни хорошо отражают свет, другие поглощают. И поэтому все видимые нами предметы - деревья, люди, животные, трава, земля, река - принимая свет, оказываются освещенными совершенно по-разному или вообще почти не освещенными. Кажется, что свет "отскакивает" от предметов и фигур, давая отзвуки, как если бы ножом стучать по разным камешкам. Отражаясь от предметов и падая на другие, свет становится бессильным: он уже не светит так ярко, не ослепляет, освещает предметы гораздо слабее. Поэтому каждый из предметов, каждая из освещаемых фигур превращается у Рембрандта, точно так же как в жизни, в целый каскад брызг светлых, темных и разноосвещенных пятнышек внутри общего контура. Благодаря этому каждый из предметов рембрандтовской композиции сохраняет свою пластическую форму. Вслед за гениальным решением композиции пейзажа Рембрандт с той же энергией и смелостью переходит к интерьеру - внутреннему виду помещения, но его мало беспокоит композиция и убранство, и он заполняет развертывающийся перед нами зал тесной и подвижной толпой. Отчетливо различимы фигуры двух-трех десятков человек. Перед нами офорт "Изгнание торгующих из храма" (1635-ый год, длина семнадцать, высота четырнадцать сантиметров). Здесь бурное движение действующих лиц, их усиленная мимика и жестикуляция, драматическая напряженность ситуации соединяется с множеством повествовательных бытовых деталей, находящихся подчас на грани гротеска. В Евангелии есть рассказ о том, как, придя с учениками в Иерусалим, Христос увидел расположившихся в храме купцов и менял; он выгнал их оттуда бичом, произнеся: "Дом отца моего не делайте домом торговли". На втором плане мы видим в центре изображение Христа - это обращенный влево дюжий детина в длинной, до полу, хламиде, перехваченной ремнем на поясе; он свирепствует среди двух десятков тщедушных лавочников, взмахивая кнутом над их головами. Замечательно, что сияние (ореол) окружает здесь не голову Христа, как это принято в подобных изображениях, а кисти занесенных над головой рук, в которых Бог-сын сжимает кнут! Изловчившись, Христос только что опрокинул стол на первом плане (слева от центра) и двух сидящих за ним менял. Золотые монеты катятся вниз, справа от стола покачнулась бочка; сзади на Христа бросается, волоча за собой на веревке погонщика, пришедший в бешенство бык, и погонщик, обессилев, падает навзничь. Другой торговец - на первом плане, в нижнем правом углу - изображен в тот момент, когда он, в напрасной погоне за улетающим голубем, падает на живот, в то время как его пес неистово лает на Христа, не решаясь, однако, его куснуть. Все купцы стремятся прочь от Христа, все спасаются, все убегают - но один из несчастных менял за повалившимся столом никак не может бежать, так как не прикрыл как следует за пазухой свой кошель с деньгами, и через секунду на него обрушится град ударов божественного кнута. Самым забавным является то, что в то же самое время в глубине слева торговцы продолжают свое небогоугодное дело, не обращая внимания на разразившийся скандал; а в глубине справа, на возвышении, спокойно продолжается торжественное богослужение на фоне величавого пространства храма. Только теперь мы обращаем внимание на интерьер как таковой - Рембрандт снова смело пользуется освещением изнутри, на этот раз уже из двух источников света. Слева за свисающим с высоченного потолка черным светильником в сверкающую глубину уходит арочный проем, образованный двумя рядами гигантских колонн. Справа свет врывается в храм с самого дальнего плана, метрах в двадцати от нас, из-под пышных и тяжелых занавесей, приспущенных над направляющейся налево торжественной церемонией священнослужителей. Так жанровые, то есть бытовые элементы, проникают у Рембрандта в библейские и евангельские сюжеты. Вот еще один из этой группы офортов - "Возвращение блудного сына", 1636-ой год (высота шестнадцать, высота четырнадцать сантиметров), сюжетно предвосхищающий гениальную эрмитажную картину под тем же названием и во всем ей противоположный. Евангельская притча рассказывает о беспутном юноше, который, получив от отца свою долю наследства, покинул отчий дом и, ведя легкомысленную жизнь, промотал все свое богатство. Тогда только, дойдя до крайней нищеты, преданный друзьями и подругами, он раскаялся и решил вернуться и просить у отца, который считал его погибшим, приюта. Отец встретил его с живейшей радостью, потому что потерял надежду на его возвращение. Эта гравюра ясно свидетельствует о глубоком чувстве, охватившем молодого художника, никогда до этого времени этот сюжет не был разработан в столь трогательной форме. Отец - справа и сын - слева бросаются друг к другу; сын падает на колени, отец склоняется к нему. Едва ли возможно более правдиво изобразить глубоко павшего человека, чем это сделал Рембрандт. Грязный, заросший, босой, обезображенный пороками и горем, покрытый лохмотьями, блудный сын в эту минуту просветлен раскаянием; в душе у него на наших глазах рождается мир и счастье. Но нет мира в этом офорте - он весь наполнен шумом и действием. Встреча отца и сына вызвала бурю неистовых движений, посох катится влево по широким каменным ступеням. Наверху служанка - может быть, мать - резким движением распахивает ставень; не в силах справиться с нахлынувшими на нее чувствами, она высовывается по пояс, чтобы лучше разглядеть вернувшегося страдальца. Справа по лестнице сходит навстречу нам слуга, несущий обувь и новое платье для прибывшего. За ним виднеется удрученная физиономия старшего брата, который не может скрыть своего неудовольствия по поводу происходящего. Треть рисунка слева отсечена по вертикали, и от нее начинается пристроенная к дому арка ворот. За ней открывается вид на холм с почти незримыми, еле проглядывающими постройками - пейзаж намечен немногими легкими штрихами, он видится словно сквозь дымку. Враждебный мир остался далеко, и мы вместе с родственниками и слугами встречаем странника, и обнимаем, и ведем к своему очагу, и ему скоро будет так же хорошо, как и нам с вами. Рембрандт понимает здесь евангельскую притчу как чисто жанровый рассказ, опрощая, вульгаризируя и героев, и самое драматическую поэтичность притчи, но тем самым возвращая ей жизненную повседневность и человеческое содержание. Но уже в конце тридцатых годов в понимании Рембрандтом драматизма и способов его выражения заметны сильные перемены. О тех тяжелых чувственных образах, которые Рембрандт, в силу стихийности своей природы, вынашивал в себе на протяжении всего творчества, красноречиво свидетельствует офорт "Адам и Ева", 1638-ой год (высота шестнадцать, ширина двенадцать сантиметров). Этот библейский сюжет использовался многими и многим художниками - почти все они ярко расписывали прелести райского сада, а Адама и Еву представляли в облике прекрасно сложенных, идеальных людей. На совместно созданной картине Рубенса и Яна Брейгеля "Адам и Ева в раю", Гаага, художники изобразили могучие и густые деревья, гирлянды цветов, диковинных животных, птиц в многоцветном оперении. На переднем плане обнаженные Адам и Ева, чьи тела идеальных пропорций приняли театрально-изысканные позы, почтительно смотрели друг на друга как галантные, благовоспитанные люди. Иное у Рембрандта. С необычайной силой он показал в офорте ту первобытную животность, присущую звероподобным прародителям человеческого рода, давая почувствовать причастность к ней для каждого из их потомков. Для прогрессивно мыслящей голландской интеллигенции происхождение человека от низших существ, вопреки библейскому мифу, было уже несомненным. Среди океана тропической растительности и обилия льющегося из глубины солнечного света в нескольких шагах от нас в тени от расположенного слева дерева стоит, сдвинув пятки и раздвинув пальцы ног, грубая, здоровенная, обнаженная Ева с длинными нерасчесанными черными волосами, похожая, несмотря на правильность форм, на какой-то раздутый кожаный мешок. Нелепо приподнимая полные руки, в которых она держит пресловутое яблоко с древа познания, с опаской втянув мужеподобную голову в плечи, Ева не говорит, а скорее мычит что-то, исподлобья поглядывая на своего голого собрата, спустившегося к ней с обрыва (слева от нас) и с каким-то дурацким видом протягивающего к яблоку левую руку. Уже сойдя, он почему-то задержал согнутую в колене правую ногу на последней ступени, и винтообразное движение его туловища полностью выявило его угловатые, костлявые формы. Чтобы сделать сцену еще убедительнее и в то же время фантастичнее, Рембрандт отдает правую треть офорта обрисовке могучего ствола, срезанного краем изображения; по этому гигантскому "древу познания", уходящему ввысь за пределы листа, карабкается вверх, обвивая его своим туловищем, отвратительное фыркающее пресмыкающееся - крылатый дракон с бородатой мордой, свисающий над Евой. Он как бы благословляет Еву взмахом перепончатого крыла; может быть, это и есть библейский дьявол, но в нашем сознании возникает образ ископаемой рептилии. Под ногами обезьянолюдей и по их фигурам стелятся сложные светотеневые переходы от дерева, лепящие пластику тяжелого, чувственного тела Евы и худощавые, жилистые и сильные формы фигуры Адама. Между фигурами и вокруг них - ярко светящийся воздух, слепящий глаза, растворяющий контуры яркого проема справа, между Евой и древом познания, где в далекой долине на уровне колен женщины, виден ярко освещенный слон, гуляющий по опушке первобытного леса. Ряд своих произведений Рембрандт посвящает легенде об Иосифе. Как рассказывается в Библии, сын Иакова, Иосиф Прекрасный был продан своими братьями в рабство и увезен в Египет, но ему удалось выйти на волю, заслужить милость фараона и стать первым вельможей Египта. В этой роли он однажды милостиво принял не узнавших его братьев, которые, гонимые голодом, пришли в Египет в неурожайный год просить зерна. С офортом "Иосиф рассказывает сны", 1638-ой год (высота одиннадцать, ширина девять сантиметров), мы вступаем в круг до тех пор не передаваемых в искусстве переживаний, воспринимая их как наиболее убедительные и, стало быть, как подлинные. Речь идет о гениальных, рано созревших, но не всеми признанных мальчиках, которым завидуют даже в их семьях. Офорт "Иосиф рассказывает сны" является в то же время и в композиционном отношении одним из самых совершенных произведений Рембрандта. Небольшой, слабо освещенный интерьер, почти весь заполненный человеческими фигурами. Стоящий посередине их, на втором плане, видимый нами целиком десятилетний кудрявый мальчик - Иосиф - очень взволнован и старается как можно точнее передать обращенным к нему слушателям подробности своих чудесных сновидений, смутно предсказывающих, что он, Иосиф, возвысится над всеми родными. В древней легенде Рембрандт видит острый психологический конфликт. Вопреки ограниченности и злобе своих братьев Иосиф провидит будущее - сны его окажутся вещими, и он догадывается об этом. Об этом же догадываются двенадцать слушателей, частично расступившиеся перед нами и образовавшие вокруг Иосифа полукольцо: трое слева, девятеро справа. Сидящие на первом плане по бокам от Иосифа лицом друг к другу - слева седобородый отец Иаков, справа - младший брат Иосифа, Вениамин, поднявший голову от книги, слушают - отец - в глубоком раздумье, Вениамин - с чисто детским любопытством. Одна только лежащая в глубине слева больная мать Иосифа - Лия, охваченная тревожными предчувствиями, приподняла голову, в то время как старшие братья Иосифа, занимающие все дальние планы справа, переживают всевозможные ступени неудовольствия. Они насмешливо перешептываются, шумят, обмениваются непристойными шутками и фыркают, но на самом деле они очень внимательны, хотя и недоверчивы. За их вниманием скрывается бесконечная, снедающая их души зависть. Портретность и отдельная трактовка каждой главы господствует у Рембрандта и здесь; восприятие рассказа Иосифа о снах отражается в каждой из этих голов с неустанной свежестью и постоянными вариациями. Самым поражающим оказывается, конечно, мальчик, который рассказывает с наклоненным вперед, к зрителю, корпусом и раскинутыми руками, весь отдавшийся своему видению. Не устаешь вслушиваться в разговор этих, не по летам умных, расставленных рук с ладонями, опущенными к земле. Если у старого Рембрандта зрителя поражают головы, лица, в особенности глаза, то у молодого Рембрандта, который еще никак не может обойтись без выразительных внешних движений - руки. Руки с совершенно размягченными суставами, так что пальцы в суставах можно трясти. Пальцы, которые при каждом повороте растопыриваются, оставляя между собой много пространства, которые при самом легком возбуждении крючатся и напрягаются, которые при разговоре вибрируют, как колеблющаяся струна. Кисти рук, которые так подвижны, что всякий предмет, воспринимаемый сознанием, тотчас схватывают или отталкивают, касаются острыми пальцами, осязательно описывают, протягиваются жестом защиты или вонзаются и колют - и ни одного момента не остаются без жизни. К лучшим офортам 1630-ых годов относится также "Смерть Марии", 1639-ый год - композиция, полная большого чувства скорби, предвосхищающая по силе эмоционального воздействия более поздние грандиозные работы мастера (ее высота сорок один, ширина тридцать два сантиметра). Нам кажется, что мы только что неслышно вошли в просторную и высокую спальню; в центре ее, в нескольких шагах от нас, слева от оси изображения, установлена на двухступенчатом цоколе торжественно убранная постель под высоким вздувающимся балдахином. На ней лежит, головой налево, прикрытая легким одеялом, Богоматерь - Мария. Она умирает. За постелью (в центре офорта) и перед ней (у левого края изображения) собралось до двух десятков людей. Это апостолы, ученики, домочадцы, подруги, врач. Большинство из них почти театральными жестами выражают свое горе и отчаяние. Этому же впечатлению способствует и пышная обстановка спальни, вернее, зала, окна которого на уходящей в глубину справа стене задернуты высокими и тяжелыми, темными занавесями; и красивые, не очень естественные позы и жесты женщин справа от постели, уже не сдерживающих стонов и рыданий, их великолепные одежды. Между ними и занавесями в торжественно-скорбной позе замер, распростерши руки, весь озаренный светом, юный апостол Иоанн. Загадочные лица собрались слева от умирающей, перед ее постелью. Некто, похожий на великого раввина, в фантастическом, роскошном костюме, с узорчатым поясом, увенчанный митрой (высокое головное украшение священника), стоит у изголовья, сложив на животе опущенные руки. Перед ним, изображенный левее и ниже его, мальчик из церковного хора держит длинное древко, на конце которого качается крест. А ближе всего стоит большой стол, срезанный левым краем офорта. Перед ним, спиной к нам, уселся в кресле кто-то в богатой восточной одежде и чалме, положил на стол фантастическую по размерам раскрытую книгу и принялся читать ее вслух. По мере продолжения этого таинственного чтения листы книги стали закручиваться клубками; вот он замолчал и оглянулся на Марию - и в этот момент она испустили последний вздох. Потолок разверзся под стопами бесплотных ангелов, летающих в смутно спускающемся облаке туда и сюда, склоняющихся к умирающей и поклоняющихся ей. Фигуры людей выполнены очень тщательно, ангелы и облако только намечены; но то, что у другого художника могло бы показаться небрежностью, у Рембрандта служит средством для выражения сверхъестественного, настолько светлого, что оно становится недоступным человеческому глазу, в отличие от всего остального, земного и столь знакомого. Итак, многое в этой гравюре фантастично. Но центральная группа с умирающей и стоящим справа за постелью старым апостолом Петром, поправляющим ей подушку, выделяется удивительной простотой и интимностью. Голова Марии безжизненно лежит на подушке, руки тяжело упали на одеяло. Апостол пытается удержать угасающую жизнь, приподнимая подушку левой рукой, а правой давая Марии нюхать налитое в платок лекарство. Справа от него врач в чалме, задумчиво опустив руку, старается узнать по пульсу, есть ли жизнь в распластавшемся перед ним теле. Эта естественность и человечность свидетелей последних мгновений Богоматери раскрывает тему смерти в ее неизбежности, каждодневной повторяемости и, в конце концов, закономерности. Потому-то эмоциональное настроение людей у постели - не бурное отчаяние, а углубленная печаль, не заломленные от горя руки, а безмолвное сочувствие, что только оттеняется помпезностью и театральностью окружающего. И в этой-то двойственности "Смерти Марии" как нельзя лучше замечен сдвиг в мировоззрении Рембрандта, расширение и углубление философского начала в его искусстве, а одновременно с этим - большая сдержанность и простота художественных средств. Каждый более или менее зажиточный бюргер Амстердама стремился, подобно аристократу, обзавестись собственным домом, желательно в два или три этажа, с высокой черепичной крышей; домом, окруженным небольшим садиком с выложенными кирпичом дорожками, цветничком и высоким забором. На приданое Саскии Рембрандт, допущенный в амстердамское патрицианское светское общество, покупает трехэтажный кирпичный дом на одной из главных улиц столицы - Бреестрат, дом с невысокими одностворчатыми дверьми и красивыми окнами. Уже входные и внутренние двери рембрандтовского дома были оформлены архитектурными украшениями - горизонтальными поясами карнизов и вертикальными выступами по бокам - пилястрами; стены дома были все оштукатурены и частично завешаны внутри драпировками. В отдельных случаях драпировки разделяли пополам комнаты, и в эти полукомнаты Рембрандт рассаживал - по одному - своих учеников. Полы в комнатах были выстланы кафельной плиткой из обожженной мергельной глины, покрытой глазурью. Так на полу получался простой рисунок, подобный клеткам шахматной доски. Под потолком, прорезая стены, проходили стройные деревянные балки; витиеватые винтовые лестницы соединяли этажи. Комнаты отапливались вделанными в стены каминами, причем дрова разжигали на так называемом очаге - железном листе, положенном перед камином на пол. Самыми красивыми украшениями дома Рембрандта были, конечно, окна - они были большими, просторными и разделялись переплетами на четыре части каждое. И каждая из четырех частей окна, в свою очередь, тоже разделялась на несколько частей, причем рисунок этого внутреннего переплета был самый разнообразный, а вставленные стекла имели красивый зеленовато-голубой цвет. Снаружи окна закрывались ставнями, и открываться могла каждая четверть окна по отдельности. До половины окна закрывались белыми занавесками, а по бокам с самого потолка до пола свисали гардины. В связи с закупкой такого дорогого дома Рембрандт впадает в долги, с которыми не в состоянии справиться. Он смог уплатить только четверть требуемой суммы, а остальные три четверти обязался покрыть в течение пяти-шести лет. Но Рембрандт не знает цены деньгам и не способен сообразовать свои расходы с доходами, особенно при украшении дома и умножении своих коллекций. Он бродит по городу, по Новому рынку, по Северному рынку, заглядывая в лавки на мостах и набережных, разыскивая старинные ткани, оружие и диковинки заморских стран. Когда на публичных аукционах он встречает интересную для него вещь, то немедленно выступает с предложением таких высоких цен, что после него уже никто не осмеливается набавлять. Однажды он взвинтил цену на продававшуюся картину Рубенса "Геро и Леандр" до четырехсот двадцати четырех золотых флоринов, и никто из присутствующих богатеев не решился уплатить большую сумму. Да и у самого Рембрандта не было таких денег. Однако он все же купил картину, заняв тут же, к изумлению всех присутствующих, недостающую сумму у мужа бывшей владелицы картины - некоего Траянуса фон Магистрис. Рембрандт подстерегает в порту капитанов дальнего плавания, которые снабжают его японской бумагой, дающей его офортным оттискам тепло солнечных лучей. Неудивительно, что среди бережливого амстердамского бюргерства поднимаются голоса, называющие его мотом, который ради внешнего блеска и пустой пышности растрачивает как свой собственный заработок, так и приданое жены. Его дом - это род кунсткамеры, где произведения искусства чередуются с предметами чужеземного быта, минералами и диковинками природы. Картины Яна ван Эйка, Броувера, Рубенса, Джорджоне, Сегерса, собранные в многочисленных папках оттиски с гравюр Луки Лейденского, Калло, Дюрера, рисунки Рафаэля и Микеланджело, вымененные им на свои картины; книги, альбомы индийских миниатюр, медали, античные бюсты, китайские вазочки, индийское платье, редкие морские растения, львиная шкура, старинное оружие, яванские боевые маски, флейты, ювелирные изделия, драгоценные камни, турецкие ковры из Смирны, отлично систематизированная средневековая скульптура и слепки, ветки кораллов, огромные раковины, высохшие морские медузы, небольшая настоящая пушка, турецкая бутылка, меха из России, перья страуса; диковинный, с выпуклыми изображениями, шлем великана - и многое другое. И эти коллекции служат реквизитом, то есть вещами, употребляемыми в качестве моделей для собственных произведений мастера, а также пособием для учеников его мастерской. Дальше (файл *.txt) >> |
| |  |
|

